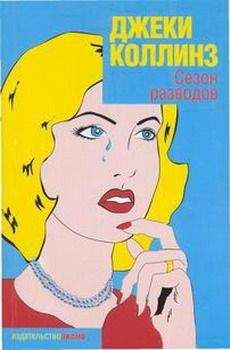Он сидел среди бумажного хлама и разодранных книг. Слышно было, как жена его Джейн плачет в другом конце дома, наткнувшись на новые следы лиходейства. Те, кто вломился в пустой дом, чтобы уничтожить труды доктора Ди и разбить инструменты (кристалл уцелел, но сгинули прекрасные астрономические приборы, небесная сфера, запасы лекарств и дистиллятов, всего ущерба он еще не подсчитал), оставили двери открытыми, а вслед за ними пришли воры и украли ложки и чашки, сняли даже наддверное распятие.
Мадими говорила, что дом в его отсутствие останется неприкосновенен{64}, — и не смогла защитить приют ни от своих, ни от его врагов.
Его враги, его соседи. Это соседи вторглись в пустое жилище, сломали инструменты и перепортили книги: они убедили себя, как то свойственно невежественным глупцам, что раз доктор Ди изучает глубинные материи и звезды, значит, он колдун и служит Дьяволу.{65}
Не одна лишь чернь рассуждала подобным образом: и образованные люди везде видели нечистую силу{66}; выживших из ума старух, что бормотали чепуху или проклинали соседей за бессердечие, теперь выгоняли из дому или сажали в тюрьму, где подвергали пыткам за служение Дьяволу. Жившая возле перелаза на Ричмондский луг старая матушка Годфруа, у которой Джон Ди покупал травы и зелья, — исчезла, ее домик обрушился, а когда доктор Ди стал расспрашивать о ней, жители Мортлейка отводили взор и говорили, что ничего не знают. У нее было бельмо на глазу, и она держала кошку — этого оказалось достаточно.
Даже королева, некогда дружившая с ним, его ученица, которую он посвящал в тайны бытия, не могла теперь открыто поддержать своего старого друга и врача. Хотя ее советники пересылали ему письма в Прагу и Тршебонь частным образом, в такие времена для монарха было бы неблагоразумным открыто благоволить человеку, которого могут уличить или заподозрить в том, что он продался Врагу.
А Джон Ди, который так часто утверждал, что он невиновен и дела его чисты, который ни разу не преклонил колени перед камнем — ни этим, ни каким другим, — не воззвав прежде к священному Имени Христа Распятого, желавший постичь тайны Божьего творения лишь для того, чтобы приумножить тем самым славу Творца, — Джон Ди теперь уже сам точно не знал, каковы те духи, с которыми он разговаривал, которых любил и которым служил, как не служил никому из людей: нечестивы они или нет.
«Нечестивы они или нет».
Эти слова, отпечатанные на машинке, были последними на листе желтой бумаги, лежавшем поверх стопки других. Эта стопка (книга, роман) возвышалась на лакированной фанерной столешнице, встроенной под створчатыми окнами, что выходили в сад. Автор пользовался ею как письменным столом. Сад его, в который он вкладывал не меньше труда, чем в любую из книг, теперь был заброшен и завален бурыми листьями. В самом низу желтой страницы стояли три глубоко пропечатанные звездочки, означавшие конец главы. Сам писатель, вернее, призрак его (ведь сам автор был мертв), ничего не помнил об этой книге, кроме слов, что были ему видны на верхней страничке, которую он не мог перевернуть и на которую смотрел без удовольствия до тех пор, пока со стороны двери черного хода не послышался звук открываемого замка, первый звук в доме за все утро; и в тот же миг он исчез.
Пирс Моффет вошел в похожую на склеп библиотеку-гостиную Феллоуза Крафта быстро и уверенно, совсем не так, как в первый раз, когда испытывал боязливое любопытство и не знал, что здесь увидит. Теперь дом был ему уже знаком во всех его состояниях, он вдохнул знакомый запах плесени, открыл окно и поискал, чем бы подпереть оконную раму — вот этой тростью, пожалуй, это же трость, если я не ошибаюсь, и рукоять в форме собачьей головы гладко отполирована рукой. Вот так. Дыхание октября приподняло пожелтевшую кружевную занавеску. На пыльном ковре гостиной возвышались груды книг; ребристые полки смотрели со стен, зияли открытые ящики шкафов.
Стоя там, он чувствовал что-то похожее на страх грабителя гробниц, а кроме того, угрызения совести за учиненный беспорядок. Но зря он так: иногда это лучший способ освободить цепкий дух старого холостяка от земных пут. При жизни Крафт складывал вещи в груды, где они и лежали нетронутыми, не находил особой причины тревожить накопившиеся бумаги и ненужную почту или переставлять с места на место вещи своих предков, не имел к тому же особой причины ни изучать их, ни показывать кому-либо, — и так оставил на них после смерти, как пыль или плесень, частички своего распадающегося «я».
Выноси все это прочь, набей пластиковые мешки старой обувью, которую он так и не решился выбросить, благо места в чулане много, стукни хорошенько книги друг о дружку, будто после уроков — тряпки, которыми вытирали доску: смотри, сколько пыли. Ты окажешь ему услугу: каждая открытая папка и каждая стопка слежавшейся бумаги освободит еще одну частицу его духа и позволит ей уйти. Взгляни, одна брошюра пролежала здесь поперек другой так долго, что на нижней буквально отпечаталась тень.
А что это, кстати? Пирс взял книжку. Оказывается, не брошюра, а экземпляр «Доктора Фауста» Марло{67}, одна из желтых книжек, изданных Сэмюэлом Френчем{68}, с пометками, словно для подготовки спектакля, в которых Пирс распознал корявый и мелкий почерк Крафта.
Забавно.
Он вернул ее примерно туда, где она и лежала.
Впервые Пирс появился в этом доме в июне вместе с Роузи Расмуссен. Фонд ее семьи поддерживал Крафта последние годы его жизни, и он завещал Фонду свой дом и бумаги, а также свои (никчемные) авторские права. Пирса наняли, чтобы он осмотрел дом и составил каталог Крафтова литературного наследия, определил стоимость книг и бумаг; но и это скромное поручение открыло некоторые необычные стороны жизни Крафта. Раскрыв взятую наугад с полки книгу (жизнеописание сэра Томаса Грешема{69}), Пирс обнаружил, что в ней спрятано около пятисот долларов наличными. Может, Крафт засунул их туда в минутном приступе паранойи; тогда это была куда большая сумма, чем теперь. Он пересчитал деньги и доложил начальству, то есть Роузи Расмуссен.
— Возьми их, — сказала она. — Поделим.
— Серьезно?
— Конечно. Кто нашел, того и деньги.
— Пожалуй, умнее ничего не придумать, — сказал Пирс.
— Абсолютно.
Но не только это позаимствовал Пирс у покойного.
В самое первое свое посещение этого дома на столе в кабинетике Крафта Пирс обнаружил объемистую машинопись на желтой бумаге, правленную бледным карандашом, который все еще лежал на подоконнике. Пока Пирс не наткнулся на рукопись, никто и не знал, что перед смертью Крафт работал над последним романом: он уже много лет перед тем ничего не писал.