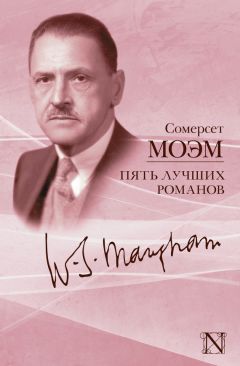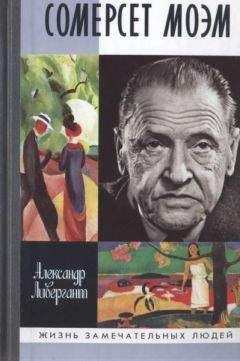– Позвольте вас поздравить, – сказал я.
– Мне, конечно, будет недоставать моей свободы. Я ее очень ценю. Но нужно думать о будущем. Скажу вам по секрету, мне ведь пошел пятый десяток. Мосье Ашиль сейчас в опасном возрасте: вдруг ему взбредет в голову увлечься двадцатилетней девчонкой, что я тогда буду делать? И о дочке подумать надо. Ей шестнадцать лет, она все хорошеет, вылитый отец. Я дала ей неплохое образование. Но что пользы отрицать факты, когда они так очевидны? У нее нет ни таланта, чтобы стать актрисой, ни темперамента, чтобы стать шлюхой, как ее бедная мать. Так я вас спрашиваю, на что она может рассчитывать? Место секретарши, работа на почте? А мосье Ашиль великодушно согласился, чтобы она жила с нами, и обещал дать за ней хорошее приданое, так что приличное замужество ей обеспечено. Поверьте мне, милый друг, что бы там ни говорили, а для женщины нет лучше профессии, чем замужество. Раз дело шло о счастье моей дочери, я просто не могла не принять такое предложение, пусть и предстоит поступиться кое-какими радостями (впрочем, с годами они все равно становились бы все менее доступны), потому что, имейте в виду, когда я выйду замуж, я намерена стать жутко добродетельной – долгий опыт убедил меня в том, что основой счастливого брака может быть только абсолютная верность с обеих сторон.
– В высшей степени нравственная позиция, моя прелесть, – сказал я. – А как мосье Ашиль, будет по-прежнему раз в две недели ездить в Париж по делам?
– О-ля-ля, за кого вы меня принимаете, дружок? Когда мосье Ашиль попросил моей руки, я ему сразу сказала: «Имейте в виду, мой дорогой, когда вы будете ездить в Париж на заседания правления, я буду вас сопровождать. Одного я вас сюда не пущу, так и знайте». А он говорит: «Вы же не воображаете, что я способен на какие-нибудь глупости». – «Мосье Ашиль, – сказала я ему, – вы мужчина в расцвете сил, и кому, как не мне, знать, что у вас очень страстный темперамент. У вас есть все, чем может плениться женщина. Словом, по-моему, вам лучше не подвергаться соблазнам». В конце концов он согласился уступить свое место в правлении сыну, теперь тот будет вместо него приезжать в Париж. Мосье Ашиль притворился, что считает мое требование неразумным, но на самом деле он был страшно польщен. – Сюзанна удовлетворенно вздохнула. – Если бы не безграничное тщеславие мужчин, нам, бедным женщинам, жилось бы еще труднее.
– Все это так, но какое отношение это имеет к вашей персональной выставке у Мейерхейма?
– Мой бедный друг, вы сегодня что-то плохо соображаете. Я же вам годами внушаю, что мосье Ашиль очень умен. Он должен думать о своем положении, а люди в Лилле всегда норовят осудить человека. Мосье Ашиль желает, чтобы я заняла в тамошнем обществе место, подобающее жене столь значительного лица. А вы же знаете этих провинциалов – обожают совать свой длинный нос в чужие дела, они же первым делом спросят: Сюзанна Рувье? А кто она такая? Так вот, ответ им будет готов. Она – та известная художница, чья выставка, состоявшаяся недавно в галерее Мейерхейма, удостоилась таких громких и заслуженных похвал. «Мадам Сюзанна Рувье, вдова офицера колониальной пехоты, с мужеством, характерным для истой француженки, в течение нескольких лет содержала своим талантом себя и свою прелестную дочь, безвременно лишившуюся отцовской заботы, и мы счастливы сообщить, что в скором времени широкая публика получит возможность оценить ее тонкое искусство и уверенную технику в галерее безошибочного знатока мосье Мейерхейма».
– Это что за галиматья? – спросил я.
– Это, мой дорогой, реклама, которую авансом организует мосье Ашиль. Она появится во всех крупных газетах Франции. Он проявил небывалое великодушие. Мейерхейм запросил безбожную цену, но мосье Ашиль согласился, словно речь шла о сущих пустяках. На предварительном просмотре будет шампанское, а откроет выставку сам министр изящных искусств – он кое-чем обязан мосье Ашилю – и произнесет очень красивую речь, в которой будет превозносить мои женские добродетели и художественный талант, а под конец сообщит, что государство, почитающее своим приятным долгом награждать достойных, приобрело одну из моих картин для национального фонда. Там будет весь Париж, а критиков Мейерхейм взял на себя. Он гарантирует, что их отзывы будут не только благоприятные, но и достаточно длинные. Они, бедняги, так мало зарабатывают, это чистая благотворительность – дать им немножко подработать на стороне.
– Все это вы заслужили, дорогая. Вы всегда были большой молодец.
– Et ta soeur, – ответила она, что уже совсем непереводимо. – Но это еще не все. Мосье Ашиль купил на мое имя виллу в Сен-Рафаэле, на берегу моря, так что в лилльском обществе я займу место не только как известная художница, но и как женщина с капиталом. Через два-три года он удалится от дел, и мы будем жить на Ривьере, как благородные. Пока я буду поглощена искусством, он сможет кататься на лодке и ловить креветок. А теперь я покажу вам мои картины.
Сюзанна занималась живописью уже несколько лет, по очереди подражала манере целого ряда своих любовников и выработала-таки свой собственный стиль. Рисовала она по-прежнему плохо, но чувство цвета у нее заметно развилось. Она показала мне пейзажи, которые написала, когда гостила у своей матери в Анжу, уголки Версальского сада и леса Фонтенбло, уличные сценки, привлекшие ее внимание в парижских предместьях. Это была живопись воздушная и невещественная, но в ней была прелесть полевого цветка и даже какая-то небрежная грация. Одна картина понравилась мне больше других, и, чтобы сделать приятное Сюзанне, я выразил желание купить ее. Не помню уж, как она называлась – не то «Поляна в лесу», не то «Белый шарф», я и по сей день этого не выяснил. Я спросил, сколько она стоит, цена оказалась сходная, и я сказал, что возьму ее.
– Вы ангел! – воскликнула Сюзанна. – Вот у меня и почин есть. Конечно, получить ее вы сможете только после выставки, но я прослежу, чтобы в газетах упомянули, что ее купили вы. В конце концов, вам лишняя реклама тоже не повредит. Я рада, что вы выбрали именно эту вещь, я считаю ее одной из своих лучших работ. – Она взяла зеркало и, прищурившись, посмотрела, как картина в нем отражается. – В ней есть шарм, – сказала она, – это уж точно. Взять хотя бы зеленые тона – какие они сочные и вместе с тем нежные! А это белое пятно в центре – подлинная находка. Оно придает композиционное единство всей картине. Да, тут виден талант, что и говорить, настоящий талант.
Я убедился, что она уже перешагнула грань, отделяющую любителей от профессионалов.
– Ну а теперь, дружок, посплетничали, и хватит. Мне надо работать.
– А мне пора уходить, – сказал я.