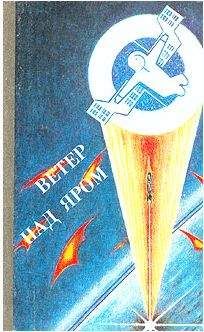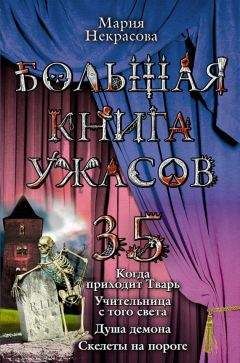— Ну, Дэви, — запротестовал Воронцов.
— Алекс, я попробую что-нибудь опубликовать. Но совершенно не представляю, что делать потом. Как жить? У меня чешутся руки от желания набить морду какому-нибудь парню из Бюро, и всем этим идиотам вроде Стадлера, и ученым тоже, хотя они, может, меньше всего виноваты. И понимаю ведь, что желание это навязано мне запирающим геном Скроча, а вовсе не разумом.
— Разумом, Дэви, — сказал Воронцов, — разумом, уверяю вас.
— Господь с вами, — вздохнул Портер. — Все-таки нам трудно понять друг друга, даже когда мы хотим одного и того же.
— Парадокс? — усмехнулся Воронцов. — А чего, собственно, вы хотите, Дэви?
— Знаете, Алекс, — сказал Портер медленно, — за три дня я стал другим… Правда. Неделю назад я бы ответил… Сейчас не могу. Я… Только не смейтесь. Я хочу, чтобы была эта наша Вселенная. И чтобы мы, люди, были тоже. Алекс, я решил жениться на Дженни. Но сначала опубликую материал. Чтобы если со мной, как с Крафтом… Чтобы Дженни была в стороне. Вот о чем я думаю, Алекс. Льюин этот… он стал, в сущности, жертвой совести.
— Скорее непонимания, — возразил Воронцов. — Он рассуждал как…
— Нет, Алекс, совести. Если есть ген агрессивности, то непременно должен быть и ген совести. Это тоже закон природы, потому что без гена совести тоже невозможна разумная жизнь. Часто агрессивность сильнее совести. Может, это нужно для развития вида? Но ведь если совесть уступает, то и развитие идет наперекосяк. Но и другое плохо — когда совесть не дает жить, когда чувствуешь себя в ответе за каждую букашку на Земле, и за каждую песчинку на Марсе, и за каждый вздох какой-нибудь шестикрылой красавицы в созвездии Антареса…
— Нет такого созвездия, — механически поправил Воронцов.
— А, черт, какая разница… Когда на весь наш род смотришь с этих позиций, тогда и понимаешь смысл жизни. Не нашей, потому что наша, человеческая жизнь, Алекс, не имеет смысла без всего этого… Искать смысл нужно не в себе, не в нас, а гораздо шире. Человечество — бомба? Мы мчались вперед, ничего не понимая, а когда поняли…
— Что поняли? — сказал Воронцов. — Что все войны и революции были из-за этого запирающего гена? Ну и каша у вас в голове, Дэви!
— Не будем спорить, — торопливо согласился Портер. — Взгляды на историю у нас могут быть разными, но совесть — она везде едина, и она-то спасет мир.
— Один совестливый уже попытался спасти мир, — хмуро сказал Воронцов. — Не нужно, Дэви, теоретизировать, это не ваша область.
— Да, да, я знаю… Ухожу. Я и так заговорил вас. Не прощаюсь, позвоню вечером. Кстати, это была хорошая идея — объявить, что вы без сознания. Внизу мои коллеги — человек сто…
Воронцов долго лежал с закрытыми глазами. Кажется, входила медсестра и делала укол — он не обратил внимания. Уличный шум усилился и резал слух — или это у него шумело в ушах? «Домой», — думал он и видел это слово перед собой, оно принимало разные обличья, то представая лицом Иры, то вспыхивая радугой над домами Арбата, то слышалось тихим смехом дочери, то многоголосием митинга правых на Манежной, и все это было одно слово…
Он не видел вертолета, зависшего на уровне окна метрах в двухстах от здания, и звука двигателя не слышал тоже. А лазерное ружье в импульсном режиме стреляет и вовсе бесшумно.
* * *
Портер вышел на улицу и остановился. За руль садиться не хотелось. От коллег удалось смыться через кухню и черный ход. Он раздумывал. Что-то он делает не так. Слишком много суеты. Искать того, искать этого. Привычка репортера. Может быть, прав Алекс, и сейчас важнее просто думать?
Портер вдруг представил себе, что дома вокруг медленно плавятся в полной тишине, а капли бетона, почему-то огромные, как дирижабли, плывут по воздуху и не падают, а поднимаются в небо, разбухая, и люди на тротуарах тоже превращаются в капли и плывут, сливаясь друг с другом. Небо становится тяжелым, воздух густеет, оседая на землю, которая расступается, поглощая все, и мир обращается в хаос. И что же это, господи! Для того, чтобы сотворить такое, и существовал человек?
«Я смогу написать это, — подумал Портер. — Нужно только поговорить с Патриксоном. До него вряд ли добрались, тихий ученый, на „Лоусон“ работали тысячи… А он обо всем догадывается и сможет объяснить. А я напишу. О том, что человек, будь он хоть сто раз запрограммирован природой, обязан прежде всего быть человеком. Искать выход. Найти его.»
Портер глубоко вздохнул. Он уже представлял себе первую страницу, готов был хоть сейчас надиктовать ее. Репортажи его и Воронцова дополнят друг друга. Они будут по-разному оценивать факты, чтобы сойтись в главном. И обязательно нужно ударить по будущему оружию. Остановить.
Портер вошел в кабинку таксофона, вспомнил номер телефона космолога и снял трубку.
Набрать номер он не успел.
* * *
— Добрый вечер, сэр.
— А, Филипс… Слушаю.
— Возможность дальнейшей утечки информации полностью блокирована. К сожалению, мы недооценили эту группу, особенно физика. Пришлось принять радикальные меры. И с русским репортером тоже, к сожалению. Полагаю, Москва ограничится нотой.
— Все равно, Филипс, ваши службы сработали очень нечетко… Кстати, что за разговоры о человечестве как о разумной бомбе? Есть в этом какой-то смысл?
— Не знаю, сэр. Оставим журналистам, пусть прожуют и выплюнут. Для нашей работы я больше помех не вижу. А будущее человечества… Вас оно волнует, сэр?
— Нет.
— Меня тоже.