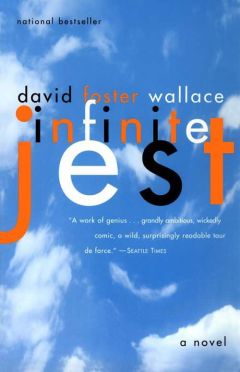- Границы – это как задние линии? – пытается спросить Марио.
- Lieber Gott, nein! - со взрывным согласным в отвращении. Штитт из всех дымовых фигур больше всего любит выдувать кольца, но не умеет, и впадает в дрянное настроение, когда выходят вихляющие лавандовые хот-доги, которые зато обожает Марио.
Вот еще о Штитте: как и многим европейцам его поколения, с юности ему привили определенные вечные ценности, у которых может иметься – ну ладно, смотря с какой стороны посмотреть, – признаться, душок протофашистского потенциала, но которые (ценности) тем не менее успешно помогают юстировать курс жизни: патриархальные фишки Старого света вроде чести, дисциплины и преданности какому-либо крупному образованию – Герхардт Штитт не столько не любит современные онанские США, сколько находит их смешными и пугающими одновременно. Возможно, в основном просто чуждыми. И, наверное, в данной экспозиции это не к месту, но у Марио Инканденцы крайне ограниченная дословная память. Штитт получил образование в доунификационной гимназии при царящей на редкость канто-гегельянской идее, что юниорская атлетика – по сути, воспитание гражданина, что юниорская атлетика заключается в научении человека жертвовать душными жмущими императивами «Я» – нуждами, страстями, страхами, мультиформенными жаждами индивидуальных воли и аппетита – во имя широких императивов команды (ну ладно, Государства) и совокупности разграничивающих правил (ну ладно, Закона). Звучит это до жуткого примитивно - хоть и не для Марио, слушающего за столом для пикника. Усвоив в палестре добродетели, которые прямо окупались в соревновательных играх, дисциплинированный юноша начинает усваивать и более абстрактные, не гарантирующие немедленного одобрения навыки, необходимые, чтобы стать «командным игроком» на большей арене - еще более дифрагированном моральном хаосе гражданства в Государстве, с полной отдачей. Только Штитт замечает: «Ах, но разве можно представить, что такое воспитание сослужит службу в экспериалистской и экспортирующей отходы нации, что позабыла трудности, лишения и дисциплину, необходимости которой и учат лишения? СШ современной А, где Государство – не команда, не кодекс, а какое-то неряшливое слияние страстей и страхов, где единственный общественный консенсус, которому обязан покориться юноша, – общепризнанный примат прямого достижения этой плоской и близорукой идеи личного счастья:
- Удовольствий и счастий айн человек, да?»
- А только чего вы тогда разрешаете Делинту привязывать кроссовки Пемулиса и Шоу к линиям, если линии - не границы?
- Когда найн нешто больший извне. Ништо не сдерживайт, не дарийт смысл. Одинокише. Verstiegenheit[59].
- Будьте здоровы.
- Хоть што угодно. Само што: оно уже более неважнен, чем то, што хоть што-то есть.
Однажды Штитт рассказывал Марио, пока они соответственно фланировали и ковыляли вниз по Содружке на восток в Оллстон, чтобы поискать где-нибудь по дороге первосортного мороженого, что когда он был возраста Марио – а скорее, где-то возраста Хэла, да неважно, – он (Штитт) однажды влюбился в дерево, иву, которая с определенной туманной сумеречной точки зрения напоминала таинственную женщину, обвитую газом, определенное дерево на общественной Плац какого-то западно-германского городка, название которого напоминало Марио звук, будто кого-то душат. Штитт сообщил, что был до глубины души сражен деревом:
- Кажднен день ходил туда, штобы побыйт с дерево.
Они соответственно фланировали и ковыляли, устремленные мыслями к мороженому, Марио двигался так, будто из них двоих на самом деле стариком был он, но не задумываясь о походке, потому что погрузился в попытки понять убеждения Штитта. Тяжелые размышления Марио отражались на лице выражением, которое любому бы напомнило комически скорченную рожицу, которыми смешат детей. Он пытался понять, как артикулировать какую-то разумную форму вопроса типа: «Как же тогда этот покорившийся – всем – личным – индивид - хочет – широкому – Государству – или – любимому-дереву-или-чему-там, в общем, как все это работает в подчеркнуто индивидуальном спорте, вроде юниорского тенниса, где есть только ты против еще одного парня?
И потом еще, опять, ну все же что это за границы, если не задние линии, которые сдерживают и направляют бесконечную экспансию игры внутрь, которые превращают теннис в типа шахматы на бегу, прекрасные и бесконечно сложные?»
Соль слов Штитта и его великая непреодолимая привлекательная черта в глазах покойного отца Марио: истинный оппонент, облегающая граница – сам игрок. Там, на корте, тебя всегда ждет только одно «Я», чтобы ты встретился с ним, сразился, закалил. Юноша-противник на другой стороне сетки: он не враг: он скорее партнер в танце. Он – как это правильно сказать - «повод» или «случай» для встречи с «Я». Как и ты – его случай. Бесконечные корни красоты тенниса – самосоревновательность. Ты соревнуешься с собственными пределами, чтобы превзойти Я в воображении и исполнении. Исчезни в игру: проломи пределы: превзойди: совершенствуйся: победи. Вот почему теннис в сути своей трагическое предприятие для серьезного юниора с амбициями, который хочет совершенствоваться и расти. Всегда стремишься победить и превзойти ограниченное «Я», чьи пределы, собственно, и делают эту игру возможной. Это трагично, печально, хаотично и прекрасно. Да и вся жизнь для нас как граждан человеческого Государства заключается именно в этом: живительные пределы – внутри, и их надо убить и оплакать, и снова, и снова.
Марио представляет себе стальной флагшток, поднятый, чтобы удвоить свою высоту, и задевает плечом зеленый железный край мусорного контейнера, делает пируэт к асфальту, но Штитт тут же бросается, чтобы его поймать, и выглядит это почти как глубокая поддержка в танце, а Штитт не прекращает рассказывать, что эта игра, которой учатся игроки в ЭТА, эта бесконечная система решений, ракурсов и линий, которой кровью и потом старались овладеть братья Марио: юношеский спорт - лишь одна грань истинного алмаза: бесконечной войны жизни против «Я», без которой нельзя жить.
Затем Штитт замолкает, словно с наслаждением мысленно перематывает и проигрывает то, что сейчас говорил. Марио снова тяжело размышляет. Он пытается понять, как артикулировать что-то вроде: «Но значит, сражаться и преодолевать «Я» – то же самое, что уничтожать себя? Это как сказать, что жизнь по убеждениям – за смерть?» Три прохожих оллстонских подростка передразнивают лицо Марио за спинами парочки. Некоторые из выражений Марио при размышлении едва ли не оргазмические: трепетные и дряблые. «А потом, ну и в чем тогда разница между теннисом и самоубийством, жизнью и смертью, игрой и ее окончанием?»