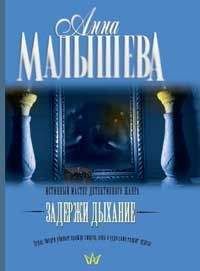— Как думаешь, Наташе сказать? Она же там с ним осталась.
— Не стоит, — лаконично посоветовал я.
Лейла немедленно заинтересовалась:
— Это вы о чем?
— Беги, вон такси! — Ксения буквально вытолкнула ее из машины, а когда я собирался выйти следом, удержала меня за рукав. — Не понимаю, почему он не сказал всю правду?
— Это и есть самое страшное. — Я с трудом высвободил руку. — Он думал, что в таком случае мы ему не поверим. Одно дело — рассказать, как семья нечаянно приютила звереныша, и совсем другое — убедить нас, что их родной сын был самым настоящим выродком. Был или стал из-за ревности к приемному брату. Так что он не только имена поменял, он и героев местами переставил.
— А если он все наврал?! — изменившимся голосом спросила Ксения. — Если он всех и убил, а?!
— Вот видишь, — после паузы заметил я. — ТАМ ты таких вопросов не задавала. Asta la vista, baby!
Хлопнув дверцей, я пошел к стоянке такси, думая о том, что, возможно, в этом году мы собирались в последний раз.
— Выйди в коридор и подожди.
Ждать пришлось минут десять. Мать о чем-то совещалась со знакомым врачом, а он стоял, равнодушно оглядывая аккуратно выкрашенные в белый цвет стены. В конце длинного коридора бесшумно открылась дверь, оттуда в сопровождении угрюмого санитара появился небритый пожилой мужчина в больничной пижаме и застиранном синем халате в полоску. Они прошли мимо, и лицо санитара выглядело куда более тупым, чем у пациента, которого он сопровождал на обследование.
Он проводил их взглядом. «Вот и сумасшедший», — подумал пятнадцатилетний парень, которого мать непременно решила обследовать на энцефалографе, — благо, что сама работала в больнице медсестрой и могла договориться, чтобы это сделали бесплатно. А у него уже третий год случались приступы невыносимых головных болей. Особенно по ночам — тогда он просыпался в испарине и, сжимая кулаки, глядел в темноту, не позволяя себе закричать, чтобы не разбудить маму. Она спала в той же комнате, в углу за шкафом. И в те краткие мгновения, на смутной грани между окончательным пробуждением и сном, ему мерещилось в серой мгле что-то страшное, как будто там его ожидал враг, более безжалостный, чем сама смерть. И этот кто-то прикладывал к его вискам ладони и сжимал их с беспощадной нежностью, переходящей в злорадное насилие. И тогда он находил в себе силы разомкнуть губы и позвать маму…
Единственный сын, моя надежда, моя опора. И ведь он не лентяй, у него хорошие способности, а в школе его то хвалят, то поливают грязью. Это в зависимости от того, было ли у него желание приготовить уроки. А оно то есть, то нет — и я не знаю, что с ним делать. Пытаюсь объяснить, что мы с ним совсем одни, и если из него ничего не получится, что с нами будет? На большую пенсию я не рассчитываю. А чтобы пробиться в этой жизни, нужны деньги, связи или упорство. И ничего у нас нет. Впрочем, упорство есть, но жаль, что только у меня. Он-то смотрит на жизнь, как на долгую веселую прогулку.
И эти его головные боли! Он просыпается по ночам и еле слышно зовет меня на помощь. Никто бы не услышал, кроме матери. Но мать должна услышать и обязана помочь. И я ему помогу.
— Что они сказали? — начал он с улыбкой, но сразу посерьезнел, увидев вылинявшее от тревоги лицо матери, вышедшей из кабинета. — Что, мама?
— Идем, — сухо сказала она и быстро пошла по коридору.
Они устроились в больничном саду, в синей деревянной беседке, скамейки в которой отчетливо пахли лекарствами и фекалиями, как все тут. Так пахла и мать, он с детства привык к этому запаху, но сейчас аммиачная вонь показалась особенно острой. И в ней было то, чем пах призрак, являвшийся по ночам в углу комнаты. Отчаяние.
— Меня не поздравили, — сказала женщина, упорно глядя в сторону. — Сперва, когда тебе делали энцефалограмму, они решили, что открепились датчики.
— Они же их поправили!
Та посмотрела на него, и на миг ему почудилось, что в ее взгляде мелькнула сдержанная ненависть. Но тут же он понял, что ошибся. Могло ли это быть?
— Поправили, — процедила мать. — Потом, если помнишь, поправили еще раз.
Конечно, он помнил. Медсестра два раза входила в темную кабинку, где его усадили в кресло, весьма напоминавшее электрический стул, поправляла датчики на голове, запястьях и щиколотках, странно посматривала. Впрочем, он не мог отчетливо видеть ее лица в слабом свете, который входил в кабинку вслед за нею. Потом его попросили не дышать. Потом — дышать учащенно. Ни о чем не думать. Подумать о чем-нибудь. Голос врача он слышал через динамики, и голос звучал неприязненно. Потом его «расстегнули», приказали обуться и еще полчаса возились с ним, смазывая голову в разных местах вазелином и прикладывая прибор, похожий на фен для сушки волос. Врач смотрел на компьютер, который фиксировал все, что происходило в мозгу, а через принтер выползала узкая бумажная лента, будто бесконечный приговор, записанный кривыми линиями. Мать стояла в углу.
— Ты станешь овощем, — без интонаций произнесла мать. — Тебе будут подвязывать подгузник и кормить через капельницу.
Он хотел что-то сказать и не мог. Это шутка? Овощем — он?!
— Но не сразу, — все так же ужасающе ровно продолжала она. — Лет через десять-пятнадцать. Это если повезет. Спрашивали, как ты учишься. Я сказала, что с переменным успехом. Спрашивали и о наследственности, были ли у нас в роду алкоголики, сумасшедшие? Я ответила, что нет. Роняли ли тебя в детстве, ушибал ли ты голову?
Тут она наконец взглянула на сына, который слушал ее с расширенными от ужаса глазами. В ее глазах ужаса не было, только отчаяние.
— И я призналась, что роняли. Однажды я пеленала тебя и не доглядела. Ты резко повернулся на столе и выпал у меня из рук. Покричал полчаса и притих. — И вздохнув, добавила: — Может быть, и не оттого… Постой, — он вскочил с занозистой скамьи, но мать схватила его за руку и насильно усадила: — А теперь слушай внимательней! — сурово произнесла она, и сын вдруг ощутил, как резко изменился ее тон.
Она стала говорить с ним, как с дебилом, которому нужно либо приказывать, либо бить его, чтобы он хоть что-нибудь усвоил. И в этот миг он поверил.
— Мы с тобой одни. — Она смотрела ему в глаза, а он не мог выдержать ее взгляда. В нем и в самом деле была ненависть. — Отец нас бросил, когда ты был маленьким. Денег нет. Вообще ничего нет. Я делала все, чтобы ты стал кем-то, чтобы мы выбрались из ямы, в которой живем. А ты не сделал для меня ничего. У меня всегда были сверхурочные дежурства, и никто в больнице так часто не исполнял чужую работу только потому, что боялся быть уволенным. А у тебя были книги, игрушки, хорошая школа, и все это оплачивала я. Я надеялась… — У нее пресекся голос. — Надеялась, что когда-нибудь ты вернешь мне этот долг. Когда ты притворялся больным и не желал идти в школу, я говорила себе: «Пусть отдохнет!» Ты не умел вымыть за собой тарелку, а я утешала себя: «Он не будет этого делать, пока есть кто-то, кто сделает это для него!» С прошлым я покончила, ничего хорошего вспомнить не удается. Я жила настоящим, боролась, смотрела в будущее. А будущего, оказывается, нет.