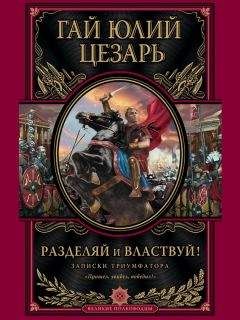– Ты переутомился, – сказала Валентина озабоченно. – Тебе нужен глубокий сон и тщательный уход. И с завтрашнего дня я приступаю к созданию необходимых условий. Если, конечно, вопрос решится положительно. Так что это в твоих же интересах.
"Нет, дело здесь не в папочке, – подумал я, прикрывая глаза. – Тут мы имеем другой случай. Эта особа своей настырностью способна уработать десять Сюняевых. А я далеко не Валерий Алексеевич. И в этой борьбе мне не устоять. Рано или поздно она меня доведет до кондиции. Одна улыбка чего стоит! А коленка… Нет, мое положение безнадежно. Есть только один шанс. Она подвержена настроениям. Быть может, завтра фокус ее внимания переместится на объект более достойный. Надо тянуть время. Надо заморочить ее какими-нибудь переговорами. Но какими? О принципах совместной семейной жизни, например. Нужно, чтобы она пришла к выводу, что я нудный и противный тип, и потеряла ко мне интерес – вот что мне нужно!.."
"Ты этого хочешь? – спросил я себя строго. И сам же себе ответил: – Нет, ты этого уже не хочешь. Ты уже думаешь о коленках, а еще через полчаса возникнут мысли более возвышенные. А что будет завтра, когда она уйдет? Ты начнешь себя корить и презирать. А если, наоборот, она не уйдет? Возможно такое? Возможно. И опять ты начнешь себя корить и презирать… Нет, ты погиб! Это же стихийное бедствие, цунами и взрыв сверхновой в одном лице! Ты станешь продуктом сгорания – вот и все. Или продуктом ее высшей нервной деятельности – выбирай. Ты пропал, Глеб, навеки пропал! Свои дни ты закончишь в сумасшедшем доме, но выбора уже нет…"
Я открыл глаза.
Валентина сидела напротив, подперев голову руками и смотрела на меня в упор.
– А еще хорохорился, – сказала она нежно. – Я ведь вас, мужиков, знаю как облупленных. Вы только делаете вид, что все решаете сами. На самом деле, все решения за вас принимают бабы. Я вообще не понимаю, как ты жил без меня.
– Я не жил. Я существовал! – простонал я. – Каждый день ложился спать в двенадцать – это что, жизнь?
– Это тебя и спасло. Я ведь знаю, что в три мужика можно брать голыми руками, а ближе к четырем даже голыми коленками.
– Сейчас только два, – заметил я флегматично. – Время есть.
– А хочешь, я сейчас уйду? – вдруг сказала она. – Хочешь?.. Все! Решено – мы расстаемся!
Валентина вскочила и побежала в прихожую, теряя шлепанцы.
"Ну, все! – подумал я. – Сейчас наступит конец света. Непонятно только, за что мне эта кара? Чем я перед тобой провинился, Господи?!"
Из гостиной послышался звон разбитой посуды и всхлипы. Надо было что-то делать…
Я встал, и отправился на казнь. В гостиной было темно и сыро. От слез. Я включил свет. Валентина стояла у стола, у ее ног валялись шлепанцы и мой махровый халат, сплошь покрытые осколками разбитой жизни. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это – бывшая ваза. До сих пор мне казалось, что она сделана из небьющегося стекла, потому что я лично уронил ее на пол никак не менее десятка раз. Из них три – на собственную ногу.
Теперь эта ваза распалась, и ее осколки удивительно равномерным слоем устилали пол, блестя что есть мочи. Посреди этого великолепия стояла Валентина в трусиках и бюстгальтере. Из глаз ее ручьем текли слезы, а из пальца на руке капала кровь. Она… В общем, она была прекрасна. Я даже зажмурился на мгновение.
"Кровь и слезы, – подумал я. – Это судьба…".
– Ну, чего уставился, дурак несчастный, – не прекращая рыданий сказала она серебряным голосом (я имею в виду голос, похожий на звон тысячи серебряных колокольчиков). – Немедленно уйди вон!
И сделала движение, пытаясь добраться до дивана. К счастью, один из осколков – самый нахальный – немедленно впился ей в пятку. Валентина взвизгнула и застыла с поднятой ногой, с расширенными от ужаса глазами, непередаваемо прекрасная и дьявольски соблазнительная.
– Стоять! – рявкнул я. – Не двигайся, иначе, клянусь всеми святыми, я закончу свой век в сумасшедшем доме!
После этой исторической фразы я приблизился к ней, хрустя осколками, осторожно поднял на руки и вынес на волю, то есть, на кухню, омываемый слезами и обнимаемый за шею.
Когда я сажал Валентину на стул, то – клянусь честью! – она не сразу убрала ладонь с моего загривка. Сейчас, находясь в здравом уме и трезвом рассудке, я понимаю, что именно это-то все и решило. Но тогда, помню, я очень резво бросился искать пинцет и медикаменты, совершенно забыв про халат. Буду откровенен, в тот момент я искренне полагал, что халат ей не нужен.
В самом деле, если у вас в пятке посторонний предмет, зачем вам халат? То же самое: если вам отсекли голову, чалма уже не нужна. Так говорят мудрецы на востоке. И они правы. Еще они говорят: что толку грустить о разбитой вазе, если сердце разбито навеки.
Именно этот тезис я развивал, извлекая стекляшку из прекрасной ноги Валентины. Я сказал, что этот осколок будет огранен с присвоением статуса бриллианта. Я даже заявил, что готов извлечь из ее пятки целую тысячу бриллиантов.
– Ты что, с ума сошел?! – возмутилась она. – Во что превратится моя пятка?
Следует отметить, что во время процедуры прямо перед моим носом фигурировал обнаженный живот Валентины. И, я вам скажу… Грудь, бедра и прочие детали – все это ерунда. Их воспевают недоумки по своим нескромным воспоминаниям о том, что они увидели в нечаянном зеркале, или, того хуже, в чайнике, искажающем и форму и суть. Ничтожества! Они не понимают, что все это – пустяки. Когда-нибудь я воспою свои воспоминания в поэме… Две главы – минимум!
Когда я завершил свои манипуляции с пяткой и завязал красивый бантик, Валентина заявила, что не намерена более терпеть мои нескромные взгляды, и велела немедленно нести халат.
Я возражал так:
– Валентина, – сказал я внушительно, – это становиться у тебя навязчивой идеей. Берегись! В гневе я неумолим. Надо подавлять в себе нездоровые инстинкты, навязанные цивилизацией. Это во-первых. Во вторых, халат теперь покрыт мириадами осколков вазы, которую ты разбила. Его невозможно извлечь из-под груды. Он не пригоден к эксплуатации на твоих плечах.
– У меня в чемодане есть другой.
– Но он отнюдь не мохеровый – раз. И у меня нет второй вазы – два. Вернемся к первой. Ты ее разбила. Но я тебя прощаю. Ибо ты не могла знать, что параллельно разбиваешь мое сердце. И притом, навеки. Я настаиваю на компенсации причиненного ущерба.
– Ага! – сказала Валентина розовея. – Это – признание. Что и требовалось доказать с самого начала. Но вазу я разбила не нарочно. Теперь одно из двух: либо ты сам раздеваешься, либо неси халат. Должно быть равноправие. Либо мужчина одет и женщина одета, либо наоборот. Это, в конце концов, неприлично!