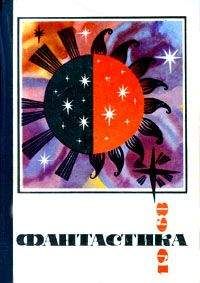Я связался с Новосибирском.
Великий физик оказался маленьким лысым человечком с длинными руками и костлявыми, крючковатыми пальцами. Он был уже стар, но держался ровно и даже несколько молодцевато. Меня соединили с его домашним кабинетом, и я был разочарован, не увидев ни одной книги на полках, ни одного шкафа для микрофильмов. Десять минут спустя, когда сигнал дошел до Земли и Шестов заметил мое недоумение, он сказал:
— Я здесь только думаю.
Моя задача была трудна. Я не мог доказать Шестову свою правоту, я должен был попытаться убедить его в правильности моих идей, а это было вдвойне сложно. Физика-теоретика не удивишь невероятными идеями, он не может отвергнуть их в силу одного лишь внутреннего противодействия, интуитивного недоверия к новому. Но каждый физик настолько раб своих собственных представлений о природе, что его невозможно сбить с испытанных позиций без доказательств, в справедливости которых он мог бы лично убедиться. Поэтому свою речь я обдумал заранее до мельчайших деталей. Я хотел провести Шестова по тому логическому пути, который прошел сам, хотел, чтобы последний вывод о необходимости изменения законов природы он сделал без моей помощи.
Шестов слушал молча, изредка отмечал что-то в блокноте. Когда я закончил, он удивленно спросил:
— Это все?
Он не стал ждать двадцать минут, чтобы получить ответ, и заговорил быстро, короткими фразами:
— Мне нравится ваш подход к проблеме. Сама проблема — нет. Конечно, это мое личное мнение. Теперь конкретно. Вот здесь, — он показал мне исписанную страницу, — только принципиальные возражения. Вы понимаете, что при полном отсутствии теории, как сейчас, иных возражений и быть не может. Я отметил одиннадцать пунктов. Первый: у нас нет досконального знания ВСЕХ законов…
Он попал в самую точку. Эти возражения я знал и раньше, но еще не мог их отвергнуть. Я надеялся сделать это впоследствии, по мере того, как будет создаваться теория.
— Не отрицаю, возможно, вы и правы, — более мягко закончил Шестов, — но при теперешнем состоянии физики это бесперспективно. Нет практических предпосылок. Не стоит ломать здание, которое может послужить еще долгие годы. Повторяю, это мое личное мнение. Попробуйте убедить других…
Я долго чувствовал себя подавленным. Не писал никуда: знал, что отовсюду могу ожидать в лучшем случае такой же ответ. Потом решил, что бездельничать, когда впереди у меня вовсе не вечность, — преступление. Если Шестов не хочет понять меня сейчас, то лет через десять, когда у меня будут готовы хотя бы вчерне наброски расчета увеличения скорости света, Шестов переменит свое мнение.
Рассчитать локальное изменение законов, конечно, проще, чем заниматься сразу фундаментальным решением Проблемы, на что я надеялся вначале. Но и здесь трудности были настолько велики, что я мог умереть, так и не увидев окончательного итога. Да и кто мог заранее сказать, каким будет результат? В этом отношении труд теоретика — неблагодарный труд. После долгих лет работы можно получить коротенькую формулу, в которой уместится вся жизнь. Можно и вообще ни к чему не прийти.
Из окна моей комнаты в Фарсиде я видел, как возводилась Башня глубокого бурения. Ареологи хотели пробиться к гипотетическому ядру Марса. Башня росла с каждым днем, упираясь в фиолетовое небо, а у меня на столе росла стопка исписанной бумаги. Мой труд казался каким-то невещественным по сравнению с этим грандиозным сооружением.
Я переселился в пустынную область Исседона, к северу от Темпейской равнины. Здесь начиналось строительство экспериментальной базы Института физики пространства. Место было выбрано неудачно, и стройку законсервировали. Для меня, однако, Исседон был идеальным местом.
База располагалась на дне пологого кратера диаметром немногим более километра. Стрельчатые кактусы достигали здесь величины чуть ли не человеческого роста. Особенно густо они росли на склонах кратера, и пахли исседонские кактусы совершенно по-особому. К этому запаху каждый раз приходилось привыкать заново. Он не распространялся далеко, нужно было войти в заросли, а то и тронуть одно-другое растение. Вначале запах ошеломлял, он заглушал все остальные чувства. Мне казалось, что его можно видеть и слышать. Запах был синим и тягучим и гудел низко, с присвистом, как гудят в полете камешки ареона. Через несколько минут это ощущение пропадало, но оставалась необыкновенная ясность мыслей.
В Исседоне и небо казалось другим. Фарсида и Ареоград — экваториальные города. Восходы и заходы солнца продолжаются здесь считанные минуты и в пыльном городском воздухе не производят впечатления. В Исседоне я впервые увидел настоящие восходы. Это изумительное зрелище. Черное предрассветное небо за какие-то секунды все — от востока до запада — становится ярко-зеленым — это начинает светиться ионосфера. Потом по небу пробегают волны, сначала зеленые с розоватым отливом, за ними — бледные, голубоватые. В полном безмолвии они сшибаются друг с другом и падают, кажется, на самое солнце, которое медленно выплывает из-за горизонта. Звезды тоже мечутся из стороны в сторону, а если в это время над Исседоном проходит планетолет, его быстрое движение кажется зигзагообразным. После восхода небо бледнеет, успокаивается. Вечером все повторяется в обратном порядке, разве только волны катятся по небу медленнее и расплываются на полпути к горизонту.
Привыкнуть к новому образу жизни было нелегко. Воду и полуфабрикаты я получал из Фарсиды и два раза в неделю должен был дежурить по утрам перед своим домиком и ждать, пока рейсовый стратоплан Фарсида-Ситон сбросит контейнер. Впоследствии через Исседон прошла нитка водопровода, и проблема воды была решена окончательно.
На новом месте успели смонтировать Малый вычислитель, и я мог подключаться к нему в любое время. Лишь изредка, когда мне нужна была новая информация, я покидал Исседон и несколько дней проводил в Фарсиде.
Было это семнадцать лет назад.
Я поставил перед собой конкретную задачу — рассчитать увеличение скорости света до трехсот шести тысяч километров в секунду. Всего на два с небольшим процента.
Я очень хорошо, с мельчайшими подробностями, помню, что происходило со мной до переселения в Исседон. Последние же семнадцать лет слились для меня в однообразную серую ленту.
Сначала шла полоса неприятностей. То я задавал вычислителю неправильные условия, как это случилось в марте второго года, то никак не мог продвинуться дальше третьего приближения. Когда работа вошла в колею, время стало измеряться для меня не годами, а порядком приближения к решению Проблемы. Я так и отсчитывал время — год восьмого или год десятого приближения.