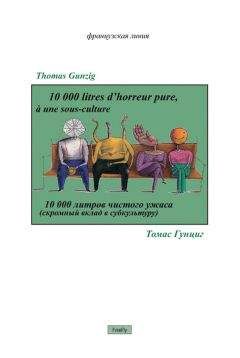Он будет работать, как каторжный, и больше ничего не желает знать.
Труднее всего дались открытки с оповещением. Поместить ли на карточках фотографию Жереми? Магали говорила: обязательно, а почему, собственно, нет? Он осторожно предлагал что-нибудь другое: пейзаж, букетик цветов, плюшевого мишку… Они долго спорили, и в конце концов она настояла на своем.
Он думал, что ему плевать, но потом представил, как это сообщение придет к нему на работу, его получит директор по продажам, покажет сослуживцам… он станет для всех отцом ракообразного, и в обеденный перерыв за столом люди будут прятать глаза и избегать скользкой темы, гадая, можно ли спрашивать о семье или нельзя, утешать его или не стоит.
Придется пройти и через это, никуда не денешься.
Они пригласили профессионального фотографа, специалистку по младенцам. Как она сказала, ей нравилось улавливать у них «эмоцию взгляда». Удалось ли ей это с гамбой? Он так и не понял. Фотографиня уверяла, что да, и Магали тоже как будто разглядела «некий отсвет».
Карточки были разосланы в понедельник утром, и со вторника его мутило. Он знал, что это ощущение продлится долго.
Магали ушла от него, когда Жереми исполнился год.
Он не ожидал ничего подобного. Месяц за месяцем он с головой уходил в работу, с каждым днем чуть больше поддаваясь мелкой тирании директора по продажам и плохому настроению представительницы заказчика. В обед никто из сослуживцев не спрашивал его о сыне, а когда приходила очередная практикантка, ей, очевидно, давали понять, что с ним не стоит затрагивать тему семьи. Все прятали от него глаза, он это видел. Но неловкое молчание все же было лучше, чем неприятная необходимость говорить о гамбе.
На Пасху, в выходные, Магали настояла, чтобы они съездили отдохнуть всей семьей. Рано утром скоростным поездом они выехали в Бретань. Он тащил чемоданы. Она несла контейнер из матовой пластмассы, за стенками которой угадывалась тень Жереми.
Как ни странно, эту поездку он совершенно не запомнил. В памяти занозой остался только дорогой и неудобно расположенный отель типа «bed and breakfast», да еще долгая прогулка против ветра, во время которой Магали не проронила ни слова и прижимала к груди треклятую посудину с Жереми, неотрывно глядя на море.
Когда Магали сообщила ему, что уходит, оказалось, что она все обдумала. Заранее сняла квартиру. Дом оставляла ему. Не претендовала на алименты, лишь бы больше его не видеть, разве что ровно столько, сколько необходимо для гамбы.
Она сказала, что консультировалась с детским психологом, и тот считает, что ребенку в возрасте Жереми нужен отец, поэтому лучше всего будет раздельная опека.
«Неделя через неделю» и месяц в летние каникулы.
Он ничего не понимал. Ему хотелось вспылить. Он вспылил. Спросил, что она себе думает, с какой стати все за него решила, если она кого-то встретила, то хорошо скрывала свои шашни, а о нем она подумала, она соображает, на минуточку, как он будет устраиваться, с работой и всем прочим?
Магали осталась невозмутима. Выслушала его спокойно. Ему показалось, что ей тоже знаком фокус с якорением из нейролингвистического программирования. Она ответила ему, что никого не встретила, просто больше «так продолжаться не может». Полчаса спустя она ушла из дома с гамбой. В дверях сказала, наклонившись к контейнеру:
— Ничего… Ничего… Ты увидишь папочку через неделю.
Он остался один.
Поел один.
Уснул один.
Ему подумалось, что он превращается в животное, и это ощущение не покидало его всю неделю, противно смешиваясь со страхом перед воскресеньем, когда, в четыре пополудни, Магали должна была прийти с гамбой… то есть, с Жереми в пластмассовом контейнере, и ему предстояло остаться наедине, face to face [1], со своим единственным сыном, что не укладывалось у него в голове.
Он поразмыслил и в четверг пришел к выводу, что эту ситуацию надо воспринимать как болезнь.
Хроническую.
Вроде малярии.
Болезнь, которая прицепляется на всю жизнь и регулярно дает о себе знать.
Магали пришла в воскресенье без десяти четыре.
Она принесла пластмассовый контейнер с гамбой внутри. Принесла коробку обогащенного протеинами корма, «на всякий случай». Сказала, что на среду сын записан к педиатру, дала ему страховую карту и попросила не забыть вернуть ее в следующее воскресенье.
Попрощалась.
Поскребла стенку контейнера и прощебетала что-то вроде: «Будь умницей, мой золотой».
Он нашел, что она прекрасно выглядит.
Она ушла, и он остался один.
Один с Жереми.
Через пять минут он спросил: «Ну как ты?»
Подавил желание хлопнуть рюмку водки.
Поднялся в детскую, открыл пластмассовый контейнер, где гамба перебирала лапками в пятнадцати сантиметрах воды.
Он переложил ее в аквариум. Насыпал немного обогащенного протеинами корма.
Сказал: «Круто, мы отлично проведем неделю вдвоем, по-мужски». Эго прозвучало как заупокойная.
Он спустился и хлопнул рюмку водки.
Что делать дальше, он не знал.
Подумав, снова поднялся в детскую.
Гамба зависла в воде, все так же перебирая лапками.
Он сел. Подождал немного. Прислушался к себе, надеясь ощутить что-то похожее на отцовскую любовь. Но ничего не почувствовал. Может быть, просто любовь? Тоже не вышло. Хотя бы душевную теплоту? Ничего в нем не шевельнулось. Он видел перед собой креветку. Большую креветку, каких десятки на своем веку он съел в паэлье.
Он снова спустился и хлопнул еще рюмку водки.
Его дом был пуст.
Его сердце было пусто. Его постель была пуста.
Он посидел, тупо глядя в стену кухни, а потом в нем созрело решение.
Решено.
Он полюбит креветку, да, он полюбит Жереми, полюбит своего сына.
И без разговоров. У него получится.
Он вернулся в детскую.
Сел.
Сосредоточенно уставился на креветку.
И стал ждать, когда снизойдет.
Двенадцативольтный моторчик немного отвлекал, ультрафиолетовое освещение тоже. Но ничего, и не такое переживали. Переживали директора по продажам, которому целый год пришлось покупать туалетную бумагу, переживали представительницу заказчика, под взглядом которой он превращался в лужицу мочи на кафельном полу мужского сортира в придорожной забегаловке.
Ясное дело, переживали и не такое.
Он спросил:
— А ты? Ты меня любишь?
Никакого ответа.
Он спросил:
— А ты будешь обо мне заботиться, когда я состарюсь и выживу из ума?