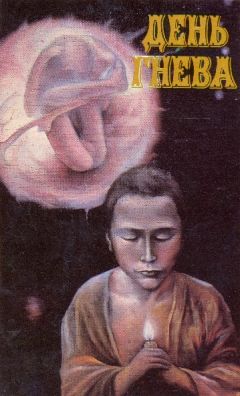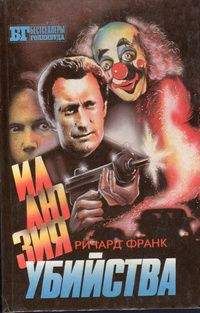Звено перехватчиков “Мираж” с ядерными боеголовками на борту, в жуткой спешке не успели опростать на бетон, настигало престижную цель, не открывая огня, хотя у многих руки на гашетках чесались.
— Финита прибывает, — прохрипело у мэра под цилиндром “Маркони” от командира “Миражей”.
— Мерси за внимание, командир. Считайте, что железный крест Жанны д’Арк уже в кармане, — прожженый политик, кавалер Почетного Легиона Пуркуа Па, учтивый в закулисной жизни, перед своими избирателями был учтив двойной порцией. Он махнул перчаткой угрюмому де Бастилио, гот флегматично вооружился букетом потяжелей. Оно выкинулось из-за горизонта в Шлейфе пыли и громокипящих завихрений.
— Гол Парижу, — отчаянно мелькнуло под цилиндром у мэра. — Боже, пощади Нотр Дам!
…Честь Парижской Богоматери осталась при себе. Безотказная формула
, помноженная на колдовской коэффициент знака качества сетей “Мицу-бис-браво” по отлову кашалотов в целях дрессировки и шоу-фокусов, она подтвердила свою беспрецедентную неувядаемость, несмотря на расцвет вселенской относительности Эйнштейна. То самое, что радушие супостатов панически окрестило “Рюсс паровозом”, нетопырем ворвалось в гибельные сети, растянуло мешок в глубинку маневровых пространств и в отличку от простоватых кашалотов без лишней волокиты могучей отдачей рогатки катапультировалось туда, где Восток.
— Отстояли Париж, — учтиво констатировал измочаленный Пуркуа, прощаясь на рю де ла Пэ среди брошенной столицы с сильной личностью де Бастилио, — Пароль д’ оннер, страшно подумать, рельсовой войной дело пахло.
— Отступать было некуда, позади Париж. На том еще Великий Бурбон стоял, — гвардейски отчеканил монархист и, оставаясь старым интриганом, коварно подпустил напоследок. — Единственно, кто не дезертировал из Лютенции Паризьериум — наши уголовнички. Ваше социалистическое величество не намерено ли объявить моим героям амнистию? По такому случаю.
— По такому случаю мы объявим вашим уголовничкам мессу, — отрезал фраппированный Па.
* * *
Передовики таможни станции “Здравствуй-и-Прощай”, только что выручившие стране методом спаса морально и физически разложившийся шлагбаум, обмозговывали в каптерке стихийное происшествие. Все на чем свет каялись в спасении жизни полосатому каторжнику дорог, ветерану-шлагбауму допотопного изделия черносотенной гильдии “Крест и орел”.
— Ошибку давали! Замешкать нечистый помешал, свеженького пригнали бы полосатого, при японском фотоглазе — будьте любезны! Жди теперь, когда план на горе свистнет.
Тут опять аппарат застучал, телеграмма полезла на другом языке, посторонний ничего не поймет. Все-таки разобрали слово “…паровоз…”
— На кой ляд паровоз, когда и слова-то такого нет уже!
Шваркнуло и крякнуло за стеклами каптерки. Брызнули сталинитовые витражи зарешеченного в Европу окна, сотрудников кинуло под станковый портрет министра, то ли обхссного, то ли по тяге — оба приходились однояйцевыми близнецами — и одного из них на гвоздике немедленно перекосило ее единым порывом, потому что заклинило.
Облако едкой ржавчины мешало разглядывать окружающую природу, народ стабунился в кучу, а кто-то выразился посреди оробелого молчанья, мол, пора спешить на степень дозы облучения очередь занимать. Не столько дозы облучения, сколько упоминание очереди неприятно смутило людей, однако тягомотное рацпредложение отпало, как только пылища осела на положенное место. К тому же рядом высветилась группа организованных лиц с поднятыми вверх руками, а под ногами в мазутном газоне валялись честные трехлинейки и один пистолет системы “ТТ” — групповой портрет стрелков ВОХРа в такой компановке снабжается девизом “Смелый ракурс”, а баталист Верещагин приветствовал аналогичные сюжеты своей кисти словами менее современными, но тоже цензурными.
Станционные сооружения, как и следовало ожидать, оказались в плачевном состоянии — как и всегда, но не хуже прежнего. Наконец-то проблеснула возможность их ослепительной модернизации или сноса до тла по причине разрухи от паровоза, бишь как там его, чего-то 104. Все же для полного ажура в пейзаже не хватало какого-то родного контура, любимого бревна в своем глазу. Да, начисто отсутствовало центральное орудие производства. Мослы пресловутого шлагбаума, грозы подпольных миллионеров и свободомыслящих валютчиков, членораздельно раскинулись на лоне природы и что характерно — веером на Восток, на нашей, Бог в помочь, твердыне.
— Костей не соберешь, — подвел общее впечатление опытный бригадир группы импортного захвата, старая шпала. — Вручим детской железной дороге, ихнему таможенному пункту. Юные таможенники смекалкой реанимируют.
— Хулиган, что натворил, — усугубил переживания начальства кто-то из более нижестоящих, тоже железнодорожного обличья. — Как ни крутись, надо срочно новый затребовать.
— Из Японии или с Бермудского треугольника, — авторитетно поддакнул один спец по экспорту-импорту.
— До юных техников с места ничего не тащить. Займутся эсгуманией сами. Вызываем фотокриминалистов. Будем проводить наглядный следственный эксперимент, — безоговорочно постановил командир ВОХРа, запихивая вороненый “ТТ” в кобуру. — Прошу всех пострадавших разойтись для дальнейшего прохождения службы.
— Чего ж эта западня нам в телеграмме отбила? Темнят все, провоцируют, — негодовали, расходясь, падкие на разоблачения передовики контрольно-пропускного производства. — Союзнички, называется. Это ж ПТУ-104, какой к черту паровоз! Все паровозы мы ж им и подарили, на них и ездят сами. И на каком оборудовании, спрашивается, следственный эксперимент воспроизводить замышляют? На новом, японо-бермудском? Опять в куски!
* * *
— В итоге, товарищи, с плацкартными беспорядками локализуется полная социально-экономическая гармония. Гуманитарная общественность, которой так полюбилось путешествовать в плацкартных, прекратит терроризировать напраслиной наш безупречный в главном аппарат великой железнодорожной державы, — член коллегии и председатель реабилитационного комитета “Рельс и шпала” листанул страницу оглушительного заключения. Тут двойные двери конференц-кабинета чуть отворились, в цель листом скользнула приталенная фигура пролазы завотделом “Катастроф и недоразумений”. Ему вменялось входить без доклада к любому конфиденциальному лицу, а больше никому не дозволялось. Оставляя в приемной следы улыбок и хихиканья, уделенных сдвоенным секретаршам, он без чинов доложил: