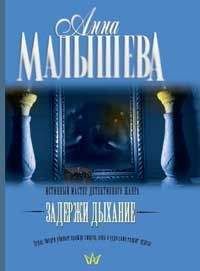— Наконец-то увидите, как я тут устроился, — говорил он, увозя нас все дальше от станции. В небрежно вымытом окне промелькнул маленький, нищий городишко. Сонные бабы на рыночной площади, бледные худые дети, пьяный мужик с собакой на веревке. Через несколько минут мы выехали за город и стали медленно подниматься в гору. — Продал все — и квартиру, и дачу, и машину. Взамен купил вот эту развалюшку, довел до ума. Лучше не нужно! Домик у меня малюсенький, но зато теплый. А вокруг-то, ребята… Вам понравится — увидите.
Мы поднимались все выше по плавному, на удивление гладкому серпантину. Над нами медленно, как тяжелая карусель, поворачивалась пологая гора, покрытая смешанным лесом. На дорогу косо сыпались розовые и желтые листья, небо было бледным и пронзительно-чистым. Петр опустил стекло, в салоне запахло хвоей, сыростью и ночными заморозками. Елена сидела на заднем сиденье, подняв воротник куртки, и молча смотрела в окно. С тех пор как она поздоровалась, ею не было сказано ни слова.
— Вы такие бледные, — заботливо говорил Петр, почти не глядя на знакомую дорогу. — Молодцы, что приехали! Я кое-что вам покажу. Не знаю даже, как и назвать… Это мое открытие.
— Новая вершина? — спросил я. Альпинизм давно стал для меня воспоминанием. Я перестал ходить в горы с тех пор, как заработал ревматизм — в двадцать-то лет!
— Совсем наоборот, — радостно откликнулся Петр. — Это пещера. Лен, тебе не холодно? Закрыть окно?
Жена не ответила, даже не пошевелилась. Она сидела так тихо, будто ее и вовсе в машине не было. Но, оглядываясь, я всякий раз встречал ее напряженный, грустный взгляд. Как будто она чувствовала… Нет — знала, что должно произойти.
Ехали долго. Я потерял счет склонам, на которые мы поднимались, с которых плавно съезжали. Помню только, что один раз дорогу перебежала линялая тощая белка. Петр коротко просигналил и пояснил:
— Они здесь почти непуганые, так и лезут под колеса. Тут и лоси есть. Ну, как вам дышится после Москвы?
И обернулся. Я — машинально — тоже. Елена упорно смотрела в окно, и в этот миг она, со своими рыжими короткими волосами, бледным лицом и застывшим темным взглядом, удивительно походила на белку, едва не попавшую нам под колеса. Только пуганую белку. Затравленную. В этот миг я впервые пожалел, что уговорил ее поехать. Что не имеет значения для мужчин, связанных многолетней дружбой, то может больно ранить женщину. Все, что угодно, — воспоминания, неосторожное слово, камешек, брызнувший из-под колес.
Петр остановил машину у серой бревенчатой постройки, ничем не огороженной. Я заметил, что к ней не подходили линии электропередачи, и в самом деле, света в домике не оказалось. Петр, едва войдя в сени, зажег керосинку, которую сразу нашел на ощупь. Медовое пламя широко вытянулось, побледнело и застыло, прикрытое закопченным стеклом.
— Вы не пугайтесь — у меня все тут есть. И печь, и скважина с артезианской водой, — говорил он, занося в комнату наши вещи. — Это уже я пробурил, а раньше приходилось ходить на родник, на гору лезть. Запасы сделал — могу не спускаться в город несколько месяцев. Это на зиму, когда занесет дороги. Есть рация на батарейках и приемник. Вот телевизора нет, не обижайтесь. Да он тут и ловить ничего не стал бы — вокруг горы!
Елена медленно, будто неохотно расстегивала куртку. Казалось, она его не слышит. За все время она ни разу не взглянула на Петра, не встретилась с ним взглядом. Села к столу, молча поела вареной картошки и тушеного мяса, молча выпила с нами рюмку водки за встречу. И поднялась наверх, в мансарду, стелить на ночь постель.
— Пойми, — говорил мне размякший от водки Петр. — Ничего человеку не нужно, никаких благ цивилизации. Стоит один раз понять, что все это мираж, шелуха — и уже ничего не нужно.
— И все же, здесь такая глушь, — упрямо твердил я. Что со мной случилось, водка ударила в голову? Или пронзительный воздух, пахнущий молодостью и нетронутым лесом? Или замкнутый взгляд жены? Я горячился: — Что ты здесь делаешь? Кого видишь? Тут поговорить не с кем!
Петр поднял красный, шершавый палец. На его лице застыло торжество:
— Не с кем? Погоди. Я покажу тебе такое, что ты и не поверишь. Я-то кое с кем разговариваю, да! И чаще, чем ты думаешь!
Я подумал, что он пьет нечасто, раз так быстро опьянел и принялся нести чепуху. Выбрал момент, попросился спать и тоже поднялся наверх.
Петр отвел нам теплую мансарду, обшитую струганными досками. Я увидел широкую кровать, застланную чистым бельем, огромные деревенские подушки. На подоконнике в банке стоял букет из осенних листьев и рябины. В углу висел жестяной умывальник. Я ополоснул лицо остывшей водой и подошел к постели. Елена лежала навзничь, залитая лунным светом, падавшим в мансарду из незашторенного окна. Я боялся ее разбудить, но вдруг увидел, что она смотрит в потолок. Сел рядом. Руки у нее оказались холодными, будто обмороженными луной.
— Ну что с тобой? — спросил я. — Почему ты такая? Он, конечно, ничего не скажет, но обидеться может…
— Не нужно было нам приезжать, — тихо сказала Елена. Она по-прежнему рассматривала доски на потолке. Тени от ресниц вытянулись на полщеки, рот казался голубым, лицо пугающе незнакомым. Как будто на подушке лежала не голова Елены, а сама луна — яркая, белая, испещренная резкими тенями.
Наверное, я выпил больше, чем нужно. Проснулся от жаркого солнца, заливавшего постель так же беспощадно, как ночью заливал простыни свет луны. В мансарде явно не хватало занавесок, но Петр к таким вещам равнодушен. Елены рядом не оказалось. На подушке осталось несколько рыжих волосков и ее запах. Я полежал немного, вдыхая его и, как всегда, пытаясь разложить аромат на составляющие. Что это было? Белая лилия, свежая вода, любовь, молодость, слабость?
Я встал. Воды в умывальнике осталось на донышке — Елена умылась тщательно. Спускаясь вниз, уже с лестницы различил в кухне голоса.
На столе красовалась огромная чугунная сковорода с яичницей, на тарелках лежали огурцы, яблоки, хлеб. Елена сидела, подперев подбородок сложенными ладонями, и не мигая, смотрела на Петра. Впервые смотрела прямо, как завороженная. А он безостановочно говорил, то и дело цепляя на вилку куски глазуньи.
— Дело, конечно, в акустике, но я не физик, сама знаешь, и мало в этом разбираюсь. Ясно одно — в пещере другие законы распространения звука. Звук — это волны, верно? Так представь себе волну, которая одновременно и легкая рябь, и барашек, и цунами. И бог знает что еще!
— Вы это о чем? — Я присел рядом, налил себе молока.
Водку Петр не выставил. Я подумал, что меня стошнит, но на лбу выступила испарина, и муть постепенно ушла. Петр увлеченно продолжал, теперь обращаясь ко мне: