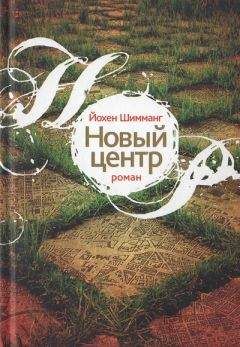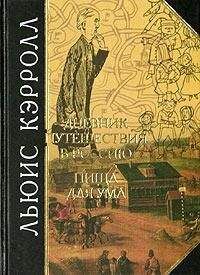Впрочем, все оказалось иначе. Нарушители — двенадцать мужчин и шестеро женщин — все как один были в прошлом низовыми солдатскими чинами, причем все — не старше двадцати пяти лет. Сэр Джордж в тот момент, когда короткие схватки в библиотеке еще были в самом разгаре, позвонил международным миротворцам и в полицию. И те и другие прибыли почти одновременно. Было не столько огорчительно, сколько забавно слушать, как они спорят, пытаясь снять с себя ответственность за преступление серо-зеленых. С одной стороны, нарушители появились здесь в военной форме, значит, наказывать их должны миротворцы, которые пока исполняют в стране функции армии. С другой стороны, той армии, в мундиры которой молодежь была одета, больше не существовало, значит, речь идет об обычных уголовниках — а ими занимается полиция. Конфликты такого рода не были редкостью. Зандер в качестве хозяина дома, а также Метцлер и сэр Джордж как два высших представителя власти, которые при сем присутствовали, быстро погасили разгоревшийся было спор и совершенно официально поручили обоим подразделениям заняться нарушителями.
Через несколько дней стало известно, что нападением на библиотеку никто из тайных врагов не руководил. Не существовало никакой опасности для нынешнего правительства, как само это правительство усердно подчеркивало; жизни канцлера Метцлера тоже ничто не угрожало. Нападение не надо воспринимать как некий сигнал. Оно не было организовано городскими катакомбами, где, судя по всему, скрывался Генерал. Им не руководила из Каринтии до сих пор не пойманная Мариэтта Кольберг. Это была самостоятельная акция молодых людей, которые в последние недели перед падением режима составляли личную охрану Генерала. Преисполненные восторженного фанатизма, но плохо обученные, они почти сразу, в начале боев, были схвачены на территории, поэтому остались живы. Учитывая их молодость, их приговорили к относительно небольшим срокам, а потом, еще до начала исполнения приговора, помиловали. В них видели скорее жертв, заблуждающихся, нежели преступников. Некоторые из них закончили элитные школы майора Гроша; все они, разумеется, были раньше членами молодежных движений «Гейм Бойз» или «Твилайт Герлз», а потом все вступили в «Серую Гвардию». Было совсем несложно справиться с ними и отобрать огнеметы — достаточно было нескольких активных граждан (я к их числу не принадлежал). Когда миротворцы и полиция стали их уводить, эти чудаки взялись за руки, словно дети, и шагали молча, преисполненные гордости за операцию, несмотря на то что она провалилась. «Они прекрасно выглядели, — сказала Элинор на следующий день, — такие красивые, юные и глупые».
Они совершили нападение не только из-за того, что ненавидели книги. Во время допросов это выяснилось очень скоро. Книги они и вправду не любили, книги были им совершенно безразличны. Они не боролись против библиотеки, они боролись за это конкретное место. В этом доме жил Генерал, а с Генералом они ощущали нерасторжимую пожизненную связь. На библиотеку они напали потому, что из-за нее дом Генерала служит теперь другой цели, а это — святотатство. Во время процесса, который начат был против верных вассалов генерала Роткирха очень скоро и привлек широкое внимание СМИ, они продолжали придерживаться своих взглядов и давали показания с горящими от возбуждения глазами. Несмотря на отсутствие раскаяния, за попытку поджога они были приговорены к мягкому наказанию — полгода тюрьмы. Существовали рекомендации из самых верхов не создавать сейчас, перед выборами, новых источников недовольства, а также избегать создания фигур мучеников. Однако молодые люди выслушали приговор именно с видом мучеников и хором запели песню «Серой Гвардии»[76]. Судья не стал назначать им штрафы за нарушение порядка.
Помимо уверенности в том, что библиотеку поджечь невозможно, вся эта комедия привела еще к одному положительному следствию: она освободила нас от парализующей усталости. На следующий день казалось, что все встряхнулись и совсем иначе стали относиться к работе, чем в предшествующие недели. В интервью, которое журнал «НЕРОН» взял у Утты Велькамп, говорилось, что нападение на библиотеку, согласно Марксу/Гегелю, — это не великая трагедия, а босяцкий фарс[77]. Впервые в действиях временного правительства стало просматриваться намерение с помощью декрета легализовать дикое поселение на руинной территории. Впрочем, толку от этого намерения было не много, потому что срок полномочий правительства заканчивался в мае и заявления такого рода давались ему легко.
Миновали последние кратковременные холода, и на две недели установилась теплая погода ранней весны. Солнце ласкало кожу, и по всей территории распространилось ощущение праздника. Однажды вечером, когда в «Толстухе» было полно народу, пуговичница закружила в танце своего скрипичного мастера, а к ним присоединились Зельда и Анна. Песне, которая звучала, было лет шестьдесят. «We starve, — пел неподражаемый женский голос, — look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories facing a dying nation, of moving paper fantasy…»[78] Элинор бросила на меня быстрый взгляд, потом взяла за руку и потянула в круг танцующих.
Через два часа мы впервые после долгого перерыва вместе лежали в постели. В последние недели она избегала меня, вечно ссылаясь на работу, и я уже начал думать, что наша короткая любовная история молчаливо закончилась, причем никто из нас не знал почему. Теперь стало казаться, что она просто-напросто на время охладела от зимней стужи. Я ничего толком не мог сказать, Элинор тоже знала не больше, чем я. В чувствах она не очень разбирается, так, во всяком случае, она мне однажды объяснила. Этой ночью она впервые рассказала о своей матери, которая ушла, когда Элинор исполнился год.
— Отец время от времени пытается убедить меня в том, что я помню какие-то события первого года жизни, — сказала она, — но все это, конечно, ерунда. Даже если я гений: амнезия раннего детства не пощадила и меня. Поначалу я в угоду ему делала вид, будто что-то припоминаю, а потом сказала честно: у меня не осталось ни тени воспоминания о матери, и у меня нет ни малейшей потребности с ней познакомиться.
— А где она сейчас?
— В Новой Зеландии, — ответила Элинор, — и это, к счастью, очень далеко.
— Ты хоть это знаешь. Я про своего отца вообще не знаю ничего, кроме того, что они с матерью встретились всего на одну ночь.
Я рассказал ей все, что знал.
Моей матери было тогда двадцать три года, и она жила в маленькой квартирке во Франкфурте-Борнхайме, две комнаты, крохотная ванная и типичная франкфуртская кухня. Она только что начала работать в банке. С моим отцом она познакомилась майским вечером в ресторанчике на Бергерштрассе, и на следующее утро в половине восьмого они вдвоем отправились — она на работу, а он — в маленький пансион в Бокенхайме, где он, по его словам, отдыхал раз в неделю. По ее прикидкам, он был в два раза старше ее. Вроде бы преподавал раз в неделю во Франкфуртском университете, а жил в Бонне, и там же, опять-таки по его рассказам, участвовал в каких-то политических делах. Моя мать считала Грегора скорее каким-то мошенником, хотя и очень милым, — так она мне позже объясняла. В университете она никогда не пыталась его найти. Да это было вряд ли возможно, ведь фамилии его она не знала. Только через два месяца она заметила, что беременна. Когда родился ребенок — то есть родился я, — работать в банке стало для нее значительно сложнее. Мать-одиночка, начинающая карьеру в банке, — это было мало реально. Но скоро она нашла работу в оптовой торговле деликатесами и проработала там тридцать пять лет, до самого последнего времени. Очень успешно, на руководящих постах. Торговая жилка у меня, подозреваю, от нее.