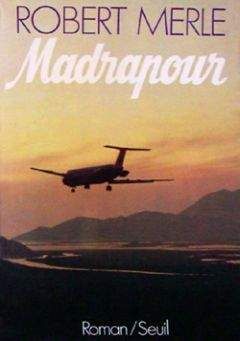Но её лицо сожаления не выражает. И чем больше я над всем этим раздумываю, тем решительнее прихожу к выводу, что бортпроводница в конечном счёте права. Когда мадам Мюрзек явилась в наш мир – конечно, в самой комфортабельной обстановке,– разве потребовала она, чтобы ей незамедлительно объявили имя Творца и грядущие судьбы планеты? А если бы даже всё это ей тогда сообщили, многое ли изменилось бы для неё оттого, что она узнала бы: командир корабля зовётся Иеговой, а земля – Землёй? На мой взгляд, истины такого рода – не более чем словесная шелуха.
– Ну что ж, задайте тогда эти вопросы от моего имени командиру,– высокомерно произносит мадам Мюрзек.– И сразу же возвращайтесь, чтобы передать мне его ответы.
– Хорошо, мадам,– говорит бортпроводница, снова поднимая брови, но все пёрышки у неё при этом в идеальном порядке и она по-прежнему свежа, как стакан холодной воды.
Она удаляется с грациозностью ангела, с той только разницей, что ангелы – существа бесполые. Я слежу, как она движется к занавеске, за которой, должно быть, расположена кухня, а за ней – кабина пилотов. Я провожаю её глазами, пока она не скрывается за занавеской.
– Ну и трещотки же они, эти французские бабы,– говорит на своём монотонном английском дородный американец, который сидит справа от меня.
Это он, когда я вошёл в самолёт, довольно грубо посоветовал мне «выложить денежки» бортпроводнице.
– Но вы-то, конечно,– добавляет он,– понимаете всё, о чём они толкуют.
– Почему «конечно»? – не слишком любезно спрашиваю я.
– Потому что вы работаете переводчиком в ООН. И вы полиглот. Судя по тому, что я о вас слышал, вы говорите на полутора десятках языков.
Я недоверчиво гляжу на него.
– Откуда вы это знаете?
– Такое уж у меня ремесло – всё знать,– говорит американец и подмигивает мне.
Когда смотришь на него вблизи, особенно поражают его волосы. Они такие курчавые, жёсткие, так плотно облегают голову, что кажется, будто на нём защитный шлём. Впрочем, и все черты его физиономии тоже выражают решительную готовность к обороне. За толстыми стёклами очков прячутся серые испытующие, пронзительные глаза. Нос основательный и властный. Губы, открываясь, обнажают крупные белые зубы. И квадратный подбородок с ямочкой посередине, в которой нет ничего трогательного, выдаётся вперёд, как носовая часть корабля.
Этот человек выглядит таким великолепно вооружённым в битве за жизнь, что я искренне удивляюсь, когда он, подмигнув мне, расплывается в улыбке, при этом пухлые губы придают ему весьма добродушный вид. Благосклонно покачивая головой, он говорит всё с той же монотонностью, однако же несколько фамильярно, что, надо признаться, озадачивает меня:
– Рад познакомиться с вами, Серджиус.
Я держусь с ледяным равнодушием, чего американец, по всей видимости, не замечает.
– Моя фамилия Блаватский,– добавляет он после короткой паузы.
Он говорит это с ноткой торжественности и бросает на меня дружелюбный и в то же время вопросительный взгляд, как будто ждёт уверений, что мне это имя известно.
– Рад с вами познакомиться, мистер Блаватский,– говорю я, намеренно нажимая на слово «мистер».
Робби, молодой немец, который, как мне кажется, не совсем в ладах с общепринятыми нормами нравственности и который с иронией наблюдает за этой сценой, понимающе улыбается мне.
Я немного побаиваюсь гомосексуалистов. Мне всегда кажется, что моё уродство сбивает их с толку. На улыбку Робби я отвечаю со сдержанностью, чуточку ханжеской, значение которой он мгновенно разгадывает, и это, по-видимому, его забавляет, ибо его светло-карие глаза начинают сверкать и искриться. Должен, однако, сказать, что я нахожу Робби вполне симпатичным. Он так красив и так женствен, что сразу понимаешь, почему его не интересуют женщины: женщина заключена в нём самом. Добавьте к этому живой, проницательный, умный взгляд, которым он постоянно обводит окружающих, при этом ни на секунду не переставая ухаживать за своим соседом, Мандзони. Ибо он определённо ухаживает за ним – и, я полагаю, без всякого успеха.
– Лично мне,– монотонно говорит Блаватский,– лично мне глубоко наплевать, как зовут командира. Но узнать тип самолёта было бы в самом деле любопытно. Во всяком случае, это не «Боинг» и не «ДЦ-10». Я уж думаю, не ваш ли это «Конкорд», Серджиус.
– Наш «Конкорд»,– перебивает его француз лет сорока, сидящий слева от меня. (Блаватский сидит от меня справа.) И продолжает очень язвительно, словно отчитывая Блаватского: – Британские в нём только двигатели, а самолёт – французский.
Он говорит по-французски правильно и очень старательно; мне предстоит вскоре узнать, что его фамилия Караман; как она пишется, Karamans или Caramans, я не знаю, и мне трудно решить, «K» здесь или «C»; во всяком случае, «man» он произносит на французский манер в нос, как второй слог в слове «charmant».
– Это не «Конкорд», мистер Блаватский,– говорю я нейтральным тоном.– Салоны «Конкорда» намного теснее.
– И делает он уж никак не девятьсот пятьдесят километров в час,– добавляет Караман с иронией, как будто такая малая скорость представляется ему смехотворной.
– Ясно одно: мы во французском самолёте,– говорит, наклоняясь вперёд, Блаватский и с вызывающим видом глядит на Карамана.– Достаточно взглянуть на это дурацкое расположение кресел. Оно съедает по меньшей мере половину полезной площади салона. Французы сроду не имели понятия о рентабельности самолёта.
У Карамана взлетают вверх брови – они у него очень чёрные и очень густые,– и он ядовито, но с полным спокойствием парирует:
– Надеюсь, что, к счастью для нас, мы действительно во французском самолёте. Мне, например, вовсе не улыбается, чтобы люк багажного отсека распахнулся во время полёта.
После этого коварного выпада Караман снова погружается в чтение «Монда», чуть приподняв в надменной гримасе правый уголок верхней губы. Я отмечаю, что он хорошо одет, но его манера одеваться несколько своеобразна: забота об изысканности костюма проявляется у него в изяществе покроя и отменном качестве ткани, но отнюдь не в умелом подборе цвета. Видя, как Караман одет, и слыша, как он говорит, я сразу проникаюсь уверенностью, что он чистейший продукт определённого слоя французского общества. От него за версту разит Высшим административным училищем, Политехнической школой или Финансовой инспекцией. Достаточно слегка подстегнуть воображение, и я, пожалуй, увижу воочию, как, негромко жужжа, за его лбом исправно, с картезианской точностью вращается безукоризненно отлаженный механизм мозговых извилин. Я убеждён также, что, когда он снова откроет рот, оттуда польётся чёткая, выверенная, исполненная спокойной уверенности в собственном превосходстве речь и начнут одна за другой выстраиваться цепочки неопровержимых доводов и фактов.