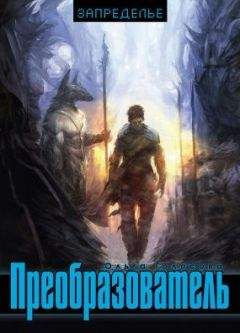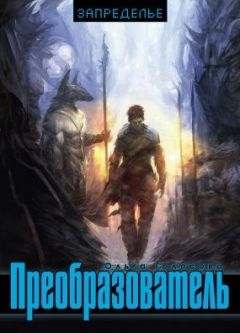– Все риелторы – крысы, – вдруг заявила Анна, забрасывая на плечо хвост безумной черной в красную розу шали. – Ну, может, и не все, но преуспевающие – точно.
Высказав эту достойную удивления сентенцию тоном уверенным и даже где-то безапелляционным, она, отделившись от стены, перестала меня разглядывать и, стуча каблучками по рассохшемуся, местами сбитому паркету, гордо удалилась вглубь необъятной, погруженной в аквариумный сумрак квартиры, оставив вопрос о переобувании открытым.
Вдалеке раздался грохот, шум воды, лязг чайника о плиту и шипение ожившего радио. В воздухе плавали пылинки, как сор в пруду. Я вздохнул и, опираясь о стену, попытался стащить с ног ботинки, не развязывая шнурков. Обои под моей ладонью зашуршали как опавшие листья. Я повернул голову и обнаружил на них загадочные цифры и буквы типа «Кл. обр. – 198 шур.», выполненные жирной пастой старой шариковой ручки, которая висела неподалеку на белой веревке, зацепленной за гвоздь. «Классический оброк – 198 шурупов» – расшифровал я надпись и ужаснулся странным извивам своего ассоциативного мышления. Стараясь не наступать на совсем уж выдающиеся клубы пыли, все еще на цыпочках (вот она, классовая брезгливость недавно разбогатевшего к давно обедневшим!) я двинулся в полную гулких раскатов глубину. Как лосось на нерест. По дороге, вдыхая густой, пропахший куревом и скипидарной вонью воздух, я почему-то начал дышать ртом. И так и замер возле очередной полуоткрытой двери. Там, внутри, солнечный свет заливал необозримое пространство комнаты, утопающей в золотом сиянии. В комнате находилось несколько мольбертов с холстами, которые подпирали подрамники и, по видимости, готовые полотна. На уголке шаткого столика лежали кисти и краски. Лицом ко мне стояла картина, на которой открывался безумный вид на старый московский дворик, которых и нынче не делают, и сделанных уже почти не осталось. Почему безумный – не знаю. Может, перспектива, может, цвета, но что-то сигналило прямо в мозг о некой ненормальности, некоем вывихе в восприятии. Я сделал шаг к полотну, но меня грубо схватили за плечо и развернули.
– И куды пресся? – поинтересовалась Анна. – Все равно ничего не увидишь.
Между указательным и средним пальцами левой руки она сжимала беломорину, а правой больно прищемила мою холеную кожу. Рукава-то на рубашке короткие.
Я поймал ее взгляд, и на несколько секунд мы замерли, пытаясь извлечь полезные сведения из глаз друг друга. Мне это удалось довольно плохо: кроме безыскусной мысли о том, что вижу перед собой очень привлекательную женщину, и притом отнюдь не дуру, мне не пришло на ум почти ничего. Надеюсь, и Анна не особо много во мне разглядела.
– И что ж ты даром на девичью красу пялишься? – в голосе ее, как коньячное послевкусие, отдалась бархатная хрипотца. – За погляд-то деньги берут! Она засмеялась, и в черных глазах ее зазмеилась тоска.
Не знаю, как другие, а я уже через пять минут после знакомства с женщиной знал, пересплю я с ней или нет. Невидимые нити, что протягиваются между людьми, были для меня очевидны, и, глядя в глаза женщине, я безошибочно чувствовал, хочет она или нет. Конечно, я не претендую на роль Провидения и ситуации могут складываться различным образом. Но что согласие или отказ даются в первые пять минут, это факт. Но в глазах женщины, остановившейся в опасной близости, была чернота. Там не было ни отказа, ни согласия, лишь какая-то безликая неумолимость, и я вдруг со страхом вспомнил вчерашнюю Атропос со шприцем. Нет, все-таки плохо мужчины изучают тех, от кого зависит их если не жизнь, то ее качество! Мотивы, кто их разберет, эти мотивы Медеи и Каллипсо, Артемиды и Афродиты!.. А ведь один и тот же поступок может влечь за собой совсем разные следствия, чего уж говорить о такой призрачной субстанции, как мотив?
Мы еще смотрели друг на друга, каждый тщательно выискивал что-то во взгляде другого, когда я представил Анну в малахитовом уборе и все сразу встало на свои места. Я не я, и шапка не моя. Не по Сеньке, стало быть. И сани чужие, и каравай прозеван. И кокос осыпался, и крокодил не ловится. В общем, не жизнь, а пикник на обочине.
Анна словно прочла мои мысли.
– В жизни каждого человека, – назидательно произнесла она, отстраняясь и тыча мне в нос папиросой, – бывают такие моменты, когда ему нужно окончательно решить кто он и с кем он. Иначе жизнь выкинет его из птицы-тройки, и будет он лежать на обочине, с завистью глядя, как мимо него проносятся, словно сон роскошные экипажи.
Она поволокла меня за собой по гулкому коридору, как щука пескаря. На кухне она еще раз обернулась ко мне, и с наслаждением потушив окурок в старой консервной банке, добавила:
– Но сдается мне, что жизнь по ту сторону экипажа гораздо разнообразнее, чем в нем. Только если все время лежать на обочине и завидовать, этого решительно не понять.
Она наконец-то выпустила мое плечо из своих стальных пальцев, и я, потирая прищемленную кожу, очутился на кухне.
Мне кажется, что на территории нашей страны все посиделки, начатые на кухне с чашки чая, фатальным образом заканчиваются бутылкой водки.
Первую поллитровку мы приговорили к трем часам дня. Прогулявшись за второй, я обнаружил себя допивающим оную в районе восьми вечера на той же кухне. К моим голым локтям намертво приклеилась грязная клеенка, переполненная пепельница источала миазмы, а остатки сырокопченой «Еврейской» колбасы маслянисто плавились на жирной тарелочке. «Кока-Кола», которой мы с Анной запивали, подошла к концу. Собственно, это и вывело меня из духовного оцепенения, и мы, посовещавшись, отправились за третьей бутылкой водки, которая, по выражению Анны, должна была снять остаточную напряженность между нами. Что она понимала под напряженностью, я не стал уточнять, потому что очень боялся упасть: некоторая леность души привела меня к тому, что я почти потерял навыки общения с представителями строительных фирм и русскими женщинами.
Вернувшись в уже почти родную мне квартиру, мы решили по обоюдной доброй воле переместиться на балкон, так как оттуда веяло свежим, полным выхлопных газов ветерком и летевший прямо в физиономию тополиный пух создавал приятную иллюзию романтических посиделок в собственном имении.
Над Москвой опускались прозрачные сумерки, те самые, что будят в душе неясную тревогу и едва ощутимый плач по невозможному и недоступному. Если в Питере белые ночи, полные сиреневых бликов и синеватых теней, касаются самых заветных струн наших замордованных повседневностью душ, то московские июньские ночи, раскинувшись над бульварами и дворами крашенных в желтый цвет сталинок, почему-то каждый раз вынуждают человека усомниться в самом себе.