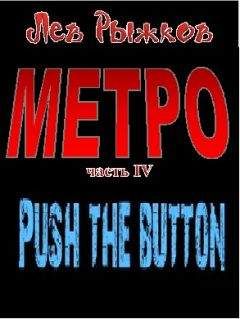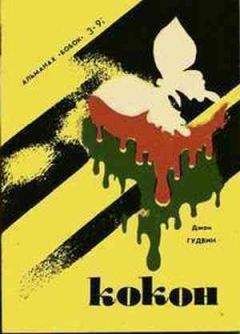Один из овалов сразу после залпа, взметнувшись вверх, вылетел за ограждение, взмыл над трибунами и рухнул вниз на зрителей. Красота!
Вторым овалом долбануло меня, третий или четвертый раз за всю жизнь. Овал шел низко над дорожкой, и удар пришелся по голени и по ботинку, поэтому хоть кость и осталась цела, я все равно заковылял, как калека. Тут же за мной погнался раннер, но его спугнул наш мотогонщик. Затем ко мне устремился мчавшийся мимо роликобежец, но я опередил его ударом в пах.
Вижу, как погибает сбитый с ног Мунпай. С него не спеша срывают шлем — все смотрится, словно в замедлен-
ной киносъемке; исходя руганью, тянусь к нему, но пробраться не в силах, и вот уже сукин сын роликобежец носком ботинка лезет ему в рот, затем удар по затылку, и зубы, как бусы, сыплются на беговую дорожку. Еще удар — и топчут его мозги. Последний прощальный стон, и все это фиксируется камерами.
А я уже пришел в себя, снова мчусь по треку, но на душе у меня звериная тоска. Впрочем, я понимаю, что и все остальные испытывают то же самое. Заключительный прилив сил, как всегда, когда игра получается, и ближе к финалу мне удается провести недурной прием: намертво прихватив под мышку голову одного из раннеров, я несусь с ним по беговой дорожке, набирая скорость и нещадно молотя его по лицу свободной рукой, пока он не повисает, словно поникший флаг, а потом швыряю под летящий навстречу овал, который навсегда припечатывает его к треку. О господи боже!
Перед последней в сезоне игрой Клитус является ко мне с долгожданными новостями: лимит времени отменен, матч состоится в Нью-Йорке, и мультивидение будет транслировать его во все страны мира. Мотоциклы возьмут более мощные, в игре будут одновременно задействованы четыре овала, а если игрок замешкается, то по свистку судьи с него в наказание снимают шлем.
— С такими правилами, — замечаю я, — игра закончится быстро, не сомневайся. Через час нам всем крышка.
Мы опять у меня на ранчо под Хьюстоном. Суббота, вторая половина дня, и мы катаемся на электрокаре, любуясь санта-джертрудской породой скота. Собственное стадо в то время, когда лишь кое-кто из аппарата управления может позволить себе есть мясо, а остальные должны довольствоваться рыбными продуктами, — вот наиболее убедительное доказательство того, что я человек состоятельный.
— У меня к тебе просьба, Джим, — говорю я.
— Все, что в моих силах, — отвечает он, не поднимая на меня глаз.
Я сворачиваю в дубовую аллею, что идет вдоль изгороди и куда с близлежащих полей доносится запах весенних фиалок и ранних нарциссов. Где-то в глубине сознания копошится мысль, что долго мне не протянуть и что хорошо бы, если бы мой прах тут и развеяли — похороны в земле разрешаются в порядке исключения, — пусть бы он стал удобрением для цветов.
— Привези мне Эллу, — говорю я. — Прошли годы, я понимаю, но я этого хочу. Сделай — и чтоб никаких отговорок, ясно?
Мы встретились на вилле под Лионом в начале июня, за неделю до финальной игры, и, по-моему, она прочла в моих глазах нечто такое, что заставило ее вновь меня полюбить. В моих же чувствах сомневаться не приходилось. Как только я ее увидел, я понял, что жил лишь смутными воспоминаниями о тех давних, но навсегда запечатлевшихся в моем сердце днях, когда про меня еще никто не слышал и я был простым докером, даже не мечтающим увидеть мир, а тем более стать участником страшного, грохочущего зрелища под названием «ролербол».
— Что с тобой произошло, Джонни? — спрашивает она, целуя мои руки, и на ее лице я вижу искреннее восхищение.
Несколько счастливых дней. Мы стараемся напомнить друг другу все то, что было в нашей совместной жизни: как мы, бывало, держались за руки, как волновались, что не получим разрешения на брак, как читали книги, что стояли на полках квартиры на Ривер Оукс. Порой приходится напрягать память. Прошлого больше нет, исчезла семья, не существует ценностей, которые проверяются только временем, поэтому я расспрашиваю у нее про ее мужа, про места, где они жили, про обстановку в их доме. В свою очередь, рассказываю ей про женщин, про мистера Бартоломью и Джима Клитуса, про ранчо среди холмов под Хьюстоном.
Хорошо бы, конечно, убедить себя, что ее отняла у меня какая-то злая сила, присущая нашему страшному веку, но я-то знаю правду: она ушла, потому что я часто отсутствовал, потому что был ненасытен в своих желаниях, потому что жил только игрой. Пусть так. Зато сейчас она сидит на моей постели, и я, как слепой, вожу пальцами по ее лицу.
В последнее утро она выходит из спальни в дорожном костюме, волосы ее убраны под меховую шапку. Голос снова обрел резкость, улыбка стала фальшивой. И мне кажется, что она похожа на наших мотогонщиков, когда они, взобравшись на вираж, высматривают добычу, а потом летят вниз и убивают наповал.
— Прощай, Элла, — говорю я. Она чуть отворачивает голову, и мои губы касаются меха.
— Я не жалею, что приехала, — вежливо изрекает она. — Счастливо оставаться, Джонни.
Нью-Йорк обезумел от предстоящих событий.
На Энерджи Плаза толпа, кассы стадиона в осаде, и, где бы я ни появился, люди, отталкивая моих телохранителей, пытаются дотянуться, дотронуться до моей одежды, словно я святой — пророк или спаситель.
Перед началом игры я стою вместе со всей командой и слушаю гимн. Сегодня я — это не я, это — жестокость и скорость, твержу я себе, стараюсь разозлиться, но где-то в глубине души копошится сомнение.
Звучит музыка, к ней присоединяется хор.
Игра! Игра! Да здравствует ролербол! Все громче музыка, и я чувствую, как мои губы шевелятся. Я пою вместе со всеми.
Перевела с английского Н. Емельянникова
Роберт Грейвз — английский поэт, романист и критик XIX века.
Т. Э. Лоренс — английский писатель и путешественник (1888 — 1935).