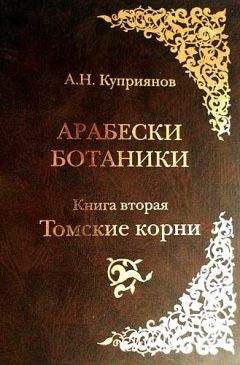– А как же кровь? – зачем-то спросил я, кивая на испачканную бурыми пятнами штанину "оборотня".
– Напужать хотел. Прикончили бы ведь, – буркнул старик. – Клюква это.
Я боялся поднять глаза. Как легко стал я частью стаи. Комсомольский билет, естественные науки, атеистические воззрения – всё отступило перед поглотившим разум инстинктом. Проснулся зверь, о существовании которого я не подозревал. Неистовое животное, готовое растерзать любого, кто указан. Стая анализировать не умеет, поэтому ревниво лишает этого человеческого свойства каждого, кто вступил в неё. Есть только вожаки. Любое выкрикнутое ими слово – закон. Слово против – приказ на уничтожение. Никто в стае не задумается, вдруг это слово и есть истина.
Как и разум, настроение в стае едино. Толпа затягивает в свою обезличенную воронку, и ты уже не сопротивляешься. Ликуешь или ненавидишь со всеми, забывая о собственных мыслях, заботах и чаяниях. Они слишком индивидуальны. Они выделяют тебя из массы, а она этого не терпит. Может изгнать. А, растворившись в коллективном организме, ты счастлив, потому что теперь всесилен. Ты – часть толпы. Кто может противостоять ей? Упиваешься своей мощью, безоговорочной правотой, радуешься возможности ничего не решать.
И не замечаешь, как стал оборотнем: вне толпы – человек, в толпе – замешанное на инстинктах животное. Нет оборотня страшнее того, что живёт в тебе самом.
Старик возился у печи, когда я встал.
– Спасибо вам. Я пойду.
Василий Тимофеевич испуганно обернулся.
– Да как же… Я грибки достал, картошечки наварим. – Отшельник едва не плакал. – Словом перемолвиться не с кем. Погостил бы…
Я замотал головой. Хотелось скорее погрузиться в чистую тайгу. Выорать там сгустки презрения к себе.
Бабка Пелагея дремала. Одна рука судорожно мяла край покрывала. Вторая не действовала. Я подошёл к старухе. Вгляделся в её черты. Может быть, у тех, кто способен губить судьбы, есть на лице какой-то знак? Хотелось увидеть его. Запомнить, уберечься в будущем от таких людей. Знака не было. Болезненно подрагивала не поражённая инсультом половина лица. Старуха страдала.
Неожиданно она приоткрыла один глаз.
– Ва… по… – Я наклонился к самым губам бабки Пелагеи. – Пом… ра… Пови Ва…
Я знал, что означали эти бессвязные слоги. Знал точно. Вышел и пошагал к избёнке Василия Тимофеевича. Дорога, показанная стариком, накрепко врезалась в память. Я даже не смотрел на оставленные мной зарубки.
Когда мы вошли в дом, там уже сидели три чистеньких старушонки.
– Отходит, – покорно сообщила одна и тут увидела "оборотня". Она попятилась и зажала рот ладошкой.
Две другие мелко закрестились. Василий Тимофеевич поклонился старушонкам и поискал глазами икону. Не найдя, медленно наложил на себя крест, повернувшись к пустому углу. Бабка Пелагея дышала трудно, с хрипами. Василий Тимофеевич подошёл к постели умирающей и тронул её за руку.
– Ну что, Пелагеюшка, видишь как всё вышло-то, – сказал он тихо. – Наделали дел мы с тобой.
Пелагея повела в сторону гостя одним глазом. Другой так и остался прикрыт отёкшим безжизненным веком.
– Пос…ти, – выдавила она.
– Иди с миром, – старик погладил её по опавшему плечу. – Бог простит, если каешься. А людям права такого нет – не прощать. Не держу я зла на тебя. Скоро уж встретимся да там всё и разрешим.
Приоткрытый глаз старухи наполнился слезой. Половина лица, не убитая параличом, начала обмякать. На челе проступила печать покоя.
Старушонки жадно вслушивались в разговор. Что-то кумекали.
Сидел на поминках дед Василий, скорбно сгорбившись. Что умел, уже рассказал. Видевшие его примирение с Пелагеей соседки утвердительно кивали. Они уже успели разнести весть по всей деревне. Но о мёртвых или хорошо, или ничего. Все молчали. Пугавший селян оборотень растаял, как таял здесь в мае снег. Мужики мрачно курили. Почему-то я был уверен, что печалит их не смерть односельчанки (срок уж) и даже не загубленная жизнь Василия Тимофеевича. Их мука порождалась воспоминаниями о собственных оборотнях. Многие женщины плакали так, как, обычно, не плачут на похоронах очень пожилых соседей.
Сын Пелагеи Захар встал, подошёл к Василию. Положив тяжёлую руку на сухонькое плечо, негромко сказал:
– Старый ты уже, дед. Перебирайся ко мне. А то изба пустая стоять будет, пока я в тайге.
Василий Тимофеевич поднял голову и посмотрел Захару в глаза.
– Котейки у меня там. Кот и кошечка. Возьму?
– Бери, нам теперь много котов надо будет. Пусть плодятся.
Захар задумчиво почесал в затылке и вразвалочку пошёл на место.
Полевую практику мне в тот год не засчитали. Врал Кирюха. Не было в той деревне коротавших мафусаилов век старцев. Про корень слыхом не слыхивали. Другой материал собрать не успел. Ничего, потом наверстал.
Сегодня я сам приближаюсь годами к Василию Тимофеевичу и бабке Пелагее. И докторская давно защищена, и научные работы на двадцать три языка переведены, а первую полевую практику по сей день считаю самой важной в своей жизни.