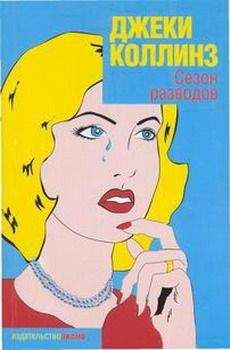— Отчего ему там не стоять, — заметил Пирс. — Это его дом. Задумался просто.
Выехали на главную дорогу. Сегодня они направлялись к ее домику у реки, чтобы заколотить его на зиму. Недавно она попросила помочь, и он согласился, хотя очень боялся этого момента, места, где их пути вновь разойдутся, боялся так, что и думать не мог, куда она отправится теперь, что с ней станет, — такого рода волнения ему никогда не удавалось унять. Но она-то казалась беззаботной и мчалась с превышением скорости сквозь оцепеневший мир — счастливая, даже слишком возбужденная; это потому, объяснила она, что я знаю, что мне делать. Она покидала Дальние горы.
Только и сказала: «Я уезжаю», — и он сперва даже не понял откуда. Она припарковалась на подъездной аллее у своего дома, но еще не успела выйти из машины. В общем, подвернулась возможность учиться в Конурбане, и она решила ею воспользоваться. Что-то типа гранта или стипендии. Она собиралась поступить в колледж Петра Рамуса на отделение социальных работников, чтобы получить степень магистра в области психиатрической социальной работы. Настоящая ученая степень. Такой случай упускать не след.
— Стипендия есть?
— Помощь, — ответила она. — Мне хотят помочь, и я там же у них смогу работать.
— У них.
— В группе целителей. Я же все объясняла.
Быстрым движением руки она прошла по щекам — возможно, утирая слезы; она улыбнулась. Она не то, что всё — она ничего не рассказывала.
— Ты что, не вернешься на работу в «Чащу»? В смысле, когда получишь свою степень…
— Может быть. — Она глянула на него искоса и отвернулась. — Кажется, решение буду принимать не я. Не знаю, поймешь ли ты что. Даже если бы я смогла объяснить.
— Угу, — ответил Пирс. — Бог вошел в твою жизнь, и ты тут же уходишь из моей.
— У нас не может быть постоянных отношений, — сказала она. — Ты же не хочешь этого.
Почему? — подумал он. Почему не может быть? Он как раз и хотел постоянных, бесконечных отношений — активных, конечно, и, может быть, даже бурных, но, безусловно, постоянных: неистовое постоянство насущного, огражденное постелью и четырьмя стенами.
— А какой, — спросил он, — им интерес платить за твое образование?
— А какой тебе интерес во всем подозревать подвох? — отбила она, распахивая дверь «терьера». — Они посвятили себя целительству. Если бы ты знал, что они совершили в разных больницах, скольким людям помогли, кому никто не мог помочь. Вот, кажется, этого ты никогда во мне и не понимал, — сказала она.
— Чего?
— Что я хочу помогать людям. Что я хочу этому научиться. — Она двинулась к дому. — Наверное, ты знаешь меня не так хорошо, как мы думали.
Роз рыскала по домику, вытаскивая последние пожитки и складывая их в багажник, а Пирс получил задание помыть туалет, что он и выполнил, а потом она попросила вытащить из сарая куски фанеры — привинтить на зиму поверх стекол для защиты от непогоды и зимних хищников, людей в том числе.
— Так, значит, вот в чем дело? — спросил он. — Это общество целителей? Исцеление верой?
— Ну да, целительство. Исцеление в Духе. Это правда, Пирс. Я сама видела.
— Я знаю, что правда.
В четвертом классе учительницей Пирса стала сестра Мэри Филомела, излечившаяся от рака желудка (по ее словам) молитвой; дядя Сэм говорил, что рак у нее был несомненный, а еще сказал — те, кто верит, что выздоровеет, иногда поправляются вопреки всем прогнозам. Чудо. По его словам, каждый врач с таким хоть раз да сталкивался.
— Конечно, правда, — повторил Пирс. — Хотя действует не то чтобы надежно. Не так хорошо и не так часто, как, например, пенициллин или операция.
Какое-то время они работали молча. Пирс нашел и притащил последний кусочек фанеры.
— Я думал, — проговорил он, — ты говорила об исцелении души. Психиатрическом излечении.
— Конечно. — Она застегнула молнию на большом спортивном костюме. — Не знаю, у меня получится или нет. Но вот было бы здорово. Просто наложить руки на депрессивного или там шизика и сказать: изыди! Опа, и он идет на поправку.
— Потрясающе, — сказал он.
— Ага.
— А кому именно, — поинтересовался он, — ты собираешься говорить «изыди»? Кто он такой?
Она ткнула пальцем ему в грудь.
— Вот этот маленький, — произнесла она, — для окошка ванной с той стороны дома.
— Я хочу знать, — сказал Пирс. — Очень хочу. Хочу знать о тебе то, чего не знаю.
Они лежали в его постели; набитая пожитками машина стояла в тумане за дверью, ночью вдруг ни с того ни с сего опять потеплело.
— Ну, — сказала Роз, — так спрашивай.
Он подумал и рассмеялся; через секунду и она тоже.
— Психологический тест, — сказал он. — Вот что мне поможет.
— А как же.
— Я тебя сейчас испытаю, — сказал он, и взгляд ее изменился; ему знаком был этот взор. Я испытаю тебя, Роз. Потом она поняла: он сказал только то, что сказал. — Об этом тесте я узнал от двоюродной сестры, Хильди, давным-давно. А ей рассказали в школе.
— Что за школа?
— «Царица ангелов», в Пайквилле, Кентукки. Хильди, — произнес он значительно, — теперь монахиня.
— У-у, — сказала Роз. — Ну, раз такое дело…
— Я предложу тебе вообразить дом, — сказал Пирс, сложив руки на коленях. — Твой дом, но не один из тех, в которых ты жила. Не дом твоей мечты и не тот, в котором ты собираешься когда-нибудь жить. Просто дом.
— А что, интересно, — сказала она.
— Ты должна будешь описать некоторые вещи в этом доме, и говорить нужно первое, что в голову придет. Интерпретация потом.
— Ясно.
— Поехали.
Они приготовились, сосредоточились, примерно так же, как на веранде у дома Роз в тот октябрьский вечер, когда практиковались в мысленной передаче образов. Затем Пирс сказал:
— Сначала ты идешь к дому. Вокруг деревья. Какой породы, какой величины.
— Высокие темные сосны. Рощица. Дома не видно.
— Хм, — глубокомысленно сказал Пирс. — Ладно, а какая дорожка к дому.
— Не видно из-за деревьев.
— Ты входишь в дом, — произнес Пирс; Роз, наблюдая за своим мысленным движением, чуть вздрогнула. — А в доме есть чашка. Где и какая.
Дом среди темных сосен, похожий на тот, в котором одиноко жил дед, — некрашеная и пыльная хибара, да только старику было на все наплевать. И тот дом, и дом вообще, как бывает во сне; и этот, в котором она сейчас лежит, тоже темный. В столовой — шкаф-горка, оклеенный изнутри обоями с узором из роз.
— Просто чашка, — сказала она. — Стоит в серванте. Старая. Не моя.
Такая старая — или просто долго не мытая, — что сверху на ободке темнеет пятно: глазурь стерлась от прикосновения губ.