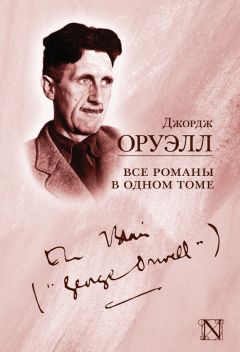Есть ли на свете нечто унижающее больше, чем желание обладать той женщиной, которая наверняка не будет вам принадлежать? Почти все мысли Флори были теперь кровожадны или непристойны – банальное следствие ревности. Пока он сентиментально обожал Элизабет, ему хотелось не столько ласк, сколько сочувствия, теперь его томило самое низменное вожделение. Без ангельского ореола его любимая предстала достаточно реалистично – глупой, тщеславной, бессердечной… Боже, какая разница для страсти? Бессонными ночами, лежа на койке, которую ради прохлады вытащили из палатки наружу, и вглядываясь в бархатную тьму, откуда порой доносился воющий лай гиен, он ненавидел свой воспаленный мозг. Ничего, кроме ревности к лучшему, победившему мужчине. Даже не ревность, а проще, грубее – зависть. Разве имел он право ревновать? У молодой прелестной девушки были все основания его отвергнуть. Размечтался, старый!.. Не подлежит обжалованию приговор: не вернешь юность, не вычеркнешь годы одинокого горького пьянства, не сотрешь со щеки уродливую метку. Только и остается, завидуя, смотреть со стороны на молодого счастливого соперника. Жуткая штука эта зависть; ее, в отличие от прочих видов страдания, до трагедии не возвысишь – мерзейшая из мук.
Были ли, впрочем, справедливы подозрения Флори? Стал ли Веррэлл действительно любовником Элизабет? Никто толком не знал. Пожалуй, все же нет, ибо сами сомнения говорили против. Ведь что скроешь в таких местечках, как Кьяктада? Во всяком случае, уж миссис Лакерстин наверное бы догадалась. Одно было несомненно – предложения Веррэлл пока не сделал. Прошла неделя, и вторая, и третья (а три недели в британо-бирманской глуши срок долгий), ежевечерние совместные прогулки верхом, как и ночные танцы на клубном корте, продолжались, однако лейтенант по-прежнему не переступал порога Лакерстинов. Толки и пересуды относительно Элизабет, конечно, кипели вовсю. Азиатское население уверенно полагало ее сожительницей Веррэлла. Версия У По Кина (ложная в частностях, но достаточно верная по сути) состояла в том, что барышня была наложницей Флори, но изменила ему ради офицера, платившего ей больше. Эллис также не уставал творить сюжетные узоры, заставляя очень кисло кривиться мистера Макгрегора. Ушей ближайшей родственницы, миссис Лакерстин, скандальный шум, естественно, не достигал, но и она уже начинала тревожиться. Каждый вечер, с надеждой встречая Элизабет после верховой прогулки, тетушка ожидала услышать потрясающую новость: «О, тетя! Вы сейчас так удивитесь!» – но никаких новостей не поступало, и самое внимательное изучение лица племянницы не позволяло ничего угадать.
Через три недели беспокойство тетушки окрасилось гневливым раздражением, тем более что ее тревогу весьма подогревали мысли о супруге, скорее всего отнюдь не изнывающем в джунглях от одиночества. В конце концов, она решилась отпустить его без присмотра, чтобы дать незамужней племяннице шанс с Веррэллом (на языке миссис Лакерстин мотивы звучали, конечно, гораздо благородней). Так или иначе, однажды вечером Элизабет удостоилась изящно-косвенной, но безжалостной нотации. Воспитательная беседа состояла исключительно из монолога со вздохами и продолжительными паузами, поскольку сентенции тетушки оставались без ответа.
Начала миссис Лакерстин с некоторых, навеянных фотографиями в «Болтуне», общих замечаний по поводу легкомыслия нынешних девиц, которые имеют нескромность расхаживать в пляжных пижамах и вообще так дешево себя ценят. Девушке, подчеркнула миссис Лакерстин, совершенно не пристало держаться с джентльменами подобным образом! Девушка должна уметь подать себя… Тут тетя запнулась: выражение «дорого» звучало не слишком корректно. Посему тетушка сменила курс, перейдя к изложению полученного из Англии письма, где сообщалось о судьбе той самой бедняжки, что безрассудно пренебрегла возможностью обрести в Бирме семейное счастье. Душераздирающие страдания несчастной лишний раз доказывали необходимость выходить за любого, буквально за любого! А теперь? О-о! Потеряв работу и практически вынужденная голодать, бедняжка смогла найти только место кухонной прислуги под началом противного, грубого и жестокого повара. И там, на кухне, всюду эти кошмарные тараканы! Не кажется ли Элизабет, что это просто предел ужаса? Тараканы!
Миссис Лакерстин помолчала, дав мерзким насекомым скопиться в достаточно устрашающем количестве, и добавила:
– Как жаль, что мистер Веррэлл с началом дождей оставит нас. Без него Кьяктада совершенно опустеет!
– А когда начинаются дожди? – усиленно изображая безразличие, проговорила Элизабет.
– Обычно в начале июня. Через неделю, может, две… О, дорогая, это глупо, но у меня из головы не идет та бедняжка – над грязной кухонной раковиной, среди отвратительных тараканов!
Жуткий тараканий призрак еще многократно являлся на протяжении беседы, длившейся весь вечер. Лишь наутро тетушка, как бы между прочим, упомянула в перечне мелких новостей:
– Кстати, и Флори, должно быть, скоро появится; он собирался непременно присутствовать на общем клубном собрании. Надо бы, видимо, как-нибудь пригласить его к обеду.
После визита со шкурой леопарда дамы о Флори начисто забыли. Сейчас обеим припомнился и он – au pis aller[43], как говорят французы.
Три дня спустя миссис Лакерстин вызвала мужа, заслужившего краткий городской отпуск. Томас Лакерстин вернулся домой с необычайно багровой физиономией («загар», пояснил он), а также с необычайной дрожью в руках, не способных зажечь спичку. Тем не менее он тут же отпраздновал свое возвращение, найдя предлог на время удалить супругу, явившись в спальню к Элизабет и весьма энергично попытавшись ее изнасиловать.
Все это время разгромленный до основания сельский бунт, как ни странно, под пеплом продолжал тлеть. Надо полагать, «колдун» (уехавший в Мартабан торговать философским камнем) справился с порученным делом не просто хорошо, а блестяще. Во всяком случае, имелась вероятность новой бессмысленной мятежной вспышки, о которой не ведало Управление, не знал даже сам У По Кин. Хотя он-то мог не тревожиться – небеса, неизменно благосклонные к нему, любым до смерти пугавшим власти туземным возмущением лишь преумножили бы его славу.
21
«Эй, ветер западный, когда ж своим порывом // Ты влагу туч прольешь потоком струй шумливых?»[44] Наступило первое июня, день общего собрания в клубе. Дождь все не начинался. Полуденное солнце, паля голову и сквозь панаму, нещадно жгло голую шею Флори, шедшего по садовой дорожке к клубу. Полуголый потный мали, тащивший на коромысле две жестянки с водой, поставил ношу, плеснув несколько капель на смуглые ступни, и склонился перед господином.