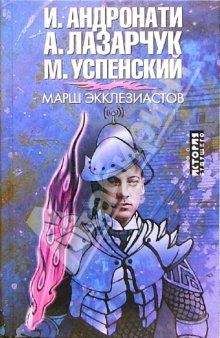– Доктор сказал, – наклонилась к нему сестра, – что забирать шестьсот миллилитров. Вы сдавали когда-нибудь кровь?
– Делайте, как он велел. Я сдавал, и помногу. После этого возьмете еще восемьсот на плазму.
– Что?!
– Именно так. Работайте, мадам.
Игла вошла в вену. По прозрачной трубке ринулся черный столбик крови.
Сто… двести… четыреста…
– Как вы себя чувствуете? – голос издалека.
– Как космонавт на орбите.
– Шутник у тебя папа.
– Он не шутник. Он ученый.
Шестьсот.
Как увозили Степку, Николай Степанович не видел. Это был какой-то моментальный провал. Потом он лежал, а над ним без всякой опоры висели бутылки с чем-то прозрачным.
– Как вы себя чувствуете?
– Как космонавт на орбите…
Кровь уходит в прозрачную подушечку. Одна… другая…
Все? Да, похоже, все.
– Сейчас, сейчас, миленький, потерпи еще… – мягкое прикосновение к щеке. – Не трать вату, Василиса… и мох не трать, раненых много, не хватит, сволочи ягды…
Гудение вдали. Костры, костры…
Жгите костры.
Что?
Нет, все в порядке. Да, я слышу. Я все слышу.
Приносят то, что осталось после центрифуги – густую черную кашу.
Возвращение долга.
Не надо так напрягаться, расслабьтесь, лежите спокойно…
Все. Он уже не в силах держаться на поверхности. Падение. Падение вниз, вниз – к самому началу, к началу…
Гулко. Шаги в коридоре. Свет.
Промедление смерти (Петроград, 1921, август)
– Гумилев, поэт, на выход!
– Нет здесь поэта Гумилева, – сказал я, вставая с нар и закрывая Библию. – Здесь есть поручик Гумилев. Прощайте, господа. Помолитесь за меня, – и я протянул книгу редковолосому юноше в студенческой тужурке.
– Руки-то за спину прими, – негромко скомандовал конвойный, вологодской наружности мужичок, окопная вошь, не пожелавшая умереть в окопе. Он не брился так давно, что вполне мог считать себя бородатым.
В коридоре нас потеснили к стене двое чекистов, тащивших под локти человека с черным мешком на голове. Один из чекистов был женщиной. Впрочем, чему удивляться, если дочь адмирала Рейснера пошла по матросикам? И эта, должно быть, какая-то озверевшая инженю из альманаха «Сопли в сиропе». Я проводил их взглядом. Было в этой новой русской тройке такое, что заставляло провожать ее взглядом.
Очень дико выглядят женщины в коже и мужчины в галифе без сапог…
Я тоже был в галифе без сапог.
– Счастливый ты, барин, – сказал мне в спину конвойный.
– Отчего так?
– Уйму деньжищ за тебя отвалили… сказать – не поверишь…
– Что ты мелешь?
– Истиный Бог!
– А как же это ты, верующий, безбожникам служишь?
– Несть власти, аще не от Бога, – извернулся конвойный. Был он редкозуб и мягок, как аксолотль. – Не о том речь, барин. Что же ты за человек такой дорогой? Сам видел – государственного банка ящики… Ты вот что, ты меня-то запомни, я тебе худого не делал и не желал вовсе. Может, пригожусь…
– Ладно, служивый. Может, и пригодишься.
Из-за угла вдруг возник чекист неожиданно пожилой, в костюме-тройке и толстых очках в железной оправе, с модной у них козлиной эспаньолкой, которая позже стала известна как ленинская бородка. Он уставился на конвойного, и я почувствовал, что сейчас что-то произойдет. Конвойный за моей спиной громко икнул.
– Ты! – завизжал чекист. – Тетерев злоебаный! Мешок где, говно зеленое? Мешок где?!!
– Да я… да вот… – и конвойный понес какую-то чушь о вобле и сухарях. Несколько секунд чекист слушал его внимательно.
– Ты знаешь, что с тобой теперь товарищ Агранов сделает? – сказал он вдруг очень тихо, и конвойный упал. Чекист пнул его в бок, плюнул и, часто дыша, но уже явно успокаиваясь, пожаловался мне.
– Вот такие и погубят революцию… Ладно, теперь уже не исправишь. Идемте, Николай Степанович, вас ждут.
И мы пошли – в раскрытую дверь, к фыркающему автомобилю «рено». Когда-то в нем ездили порядочные люди, а теперь…
Я увидел, кто в нем ездит теперь, и ахнул от изумления.
– В сущности, вы уже три дня как мертвы. По всему городу вывешены расстрельные списки. Вы идете номером тридцатым. Гумилев Николай Степанович, тридцати трех лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской Боевой организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности… Извините за стиль.
– А что это вы за них извиняетесь? – пожал я плечами.
– Потому что в какой-то степени несу за них ответственность. Впрочем, как и вы.
– Помилуйте! Я-то с красными флагами не ходил и сатрапов не обличал…
– А кто подарил портрет августейшего семейства какому-то африканскому колдуну?
Я вдруг почувствовал, что у меня поднимаются волосы.
– Не может быть…
– Ну, не только из-за этого. Но представьте себе, что в один прекрасный для Африки день этот ваш колдун, платонически влюбленный в крошку Анастасию, вздумал произвести над фото несколько пассов… Образования у него, конечно, никакого, но стихийная сила совершенно дикая. И этот…– Яков Вильгельмович сделал отводящий знак, – ну, как его? Его еще свои же пролетарии на митинге кулаками забили…
– Уринсон, что ли?
– Не знаю никакого Уринсона. Свердлов, вот. Idem Гаухман. Он и распорядился, а Ульянов распоряжение подтвердил – и попробовал бы он не подтвердить…
– Яков Вильгельмович, – сказал я, – это же какой-то бред. Это для салона, для молодых болванов, каковым был ваш покорный слуга в те добрые времена…
– И для выживших из ума стариков, – ехидно подхватил Яков Вильгельмович. – Вы подумайте лучше, почему из-за вас ОГПУ две сотни христианских душ загубило?
Целый заговор сочинили, ночей не спали… Ну, теперь-то у них дело широко пойдет.
– Вы не поверите, – сказал я, – но я все равно ничего не понимаю.
Яков Вильгельмович, сколько я его помню, был тихим ласковым старичком в таком возрасте, когда о летах уже и не спрашивают. Его можно было встретить решительно на всех поэтических вечерах и сборищах, строжайше засекреченных масонских собраниях, на кораблях хлыстов и скопческих радениях, на советах розенкрейцеров, в буддистском дацане, на собраниях оккультистов самого дрянного пошиба, в келье Распутина и даже на афинских ночах рано созревших гимназистов. Всегда он был тих, вежлив – и, несмотря на высокий рост и прямую спину, как бы незаметен. И вдруг…