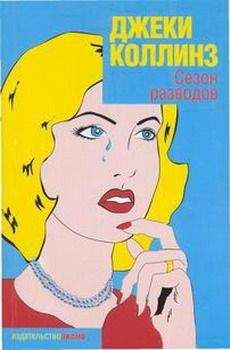Роузи не могла рта открыть.
— Уже накопились кое-какие счета, — сказал он.
— Ладно.
— Не очень много.
— Ладно, я оплачу, Алан. Пришлите их.
— Но все это может обойтись дороговато. Если вмешается секта. Я представления не имею, какие у них финансовые возможности.
— Я же сказала, что оплачу. Подождите немножко.
— Так вот, могу ли я внести предложение? — Очевидно, он повернулся в своем большом кресле, она часто видела, как Алан, задумавшись, вертится в нем, прикладывая трубку то к одному уху, то к другому. — Если бы вы могли принять наконец решение относительно Фонда. Ну, чтобы вступить в должность директора. Возросло бы не только ваше жалованье. Я же все-таки поверенный в делах Фонда. Так что…
Грудь Роузи словно окаменела. И Алан туда же. Беззащитна; она даже не знала, до какой степени беззащитна; обнажена, как человечек в мультфильме или немом кино, у которого одежду унесло порывом ветра.
— Шел бы ты на хуй, Алан, — сказала она.
— Роузи.
— Я сама справлюсь. Ведь я справлюсь, да? Справлюсь?
— Это было просто предложение, — произнес он кротко.
— Забудьте, — сказала она. — Пришлите мне счета.
И повесила трубку.
Бежать. Бежать из чужих для нее мест, которые так и не станут своими. Бежать, как бежал много лет назад ее отец. Быть может, обратно на Средний Запад. К маме. К кому-нибудь. На миг ей представилась западная дорога, прямая, с разделительным белым пунктиром посередине: она исчезала во тьме.
Нет, бежать нельзя, это, конечно, противозаконно. Как бы то ни было, Майк — отец Сэм, она не имеет такого права; Сэм любит отца не меньше, чем маму, а может, и больше.
Ни сбежать. Ни умереть. Дверь в широкий мир все еще оставалась открытой. На миг Роузи увидела стоящего у входа Бони Расмуссена, не в зеленом шелковом халате, в котором он умер, а в потертых серых габардиновых брюках, которые всегда носил, и в белой рубашке, застегнутой до самого горла, — слишком большой для его усохшего тела.
Всего лишь на миг. Она прошла через холл, осторожно, словно по темной тропинке, и прикрыла дверь, потом заперла ее на замок и закрылась на цепочку.
На той неделе телевизор Пирса (купленный по дешевке на трущобной улице, где он когда-то жил; аппарат, безусловно, краденый, но ведь и Пирса грабили не однажды, так что баланс примерно сходился) пытался показать передачу о разоблачении одного мага-сектанта с Западного побережья; Пирс так и сяк поворачивал кроличьи ушки антенн, пытаясь добиться здесь, в долине между горами, хоть какого-нибудь изображения. Тот человек приманил невесть сколько последователей своей якобы магической силой, прежде всего — даром исцеления; а потом один юный астматик, который беззаветно вверил себя учителю и отказался от всех лекарств, взял да и умер в его присутствии. А остальные вроде бы собрались на квартире у мага вокруг трупа, и наставник пообещал, что если их вера достаточно сильна, то они вместе сумеют воскресить мертвого.
Несколько дней покойник пролежал там, а они молились и напрягали волю. Наконец у кого-то иссякла вера или кто-то постучал в дверь, а может, соседи вызвали полицию.
Сегодня камера проводила до здания суда, а затем встретила на выходе одного артиста, комика, который без всякой комичности проталкивался через толпу в окружении юристов. Многие из приверженцев того мага были шоуменами, актерами, некоторые даже знаменитыми: сами кудесники, уж они-то, кажется, могли бы разобраться.
Но, боже мой, сидеть в одной комнате со смертью, пытаясь победить ее, добровольно войти туда, куда входить нельзя. Ужасная иллюзия и ее разоблачение, взломанная дверь, изумленные полицейские — и спящие, которые, наконец, пробуждаются или пытаются пробудиться — или даже не пытаются. Впрочем, мертвый так мертвым и остался. Даже засмердел. Все это, в сущности, так ужасно, что даже во рту отдает мерзостью, — но Пирс не мог ни определить привкус, ни назвать ужас по имени.
Он выключил телевизор.
Всякая магия — дурная магия. Впервые он так подумал. Чтобы заниматься магией, ты должен подчинять других и верить, что можешь свершать невозможное, и других заставлять верить в это. Всякая магия — дурная магия.
Так ли?
Что, если они с ней, что, если в своем безумном рвении они зашли так далеко, что случился Folie à deux[38]{176}? Случалось же, по словам его родного отца (в то время — завсегдатая бань и ночных баров), что двое мужчин, атлетов и святых секса, вступали в любовные отношения с такой силой и безумием страсти, что один умирал от усердия или назойливости другого. А потом стук в дверь, квартирный хозяин, копы, смерть, явившаяся, куда ее позвали: настоящая смерть, не символ бессмертия («до самой смерти») и не «лучшая жизнь», а просто смерть, собственно смерть.
«Когда ты кончаешь, я вижу твою душу», — говорил он ей; он видел, как та поднимается к глазам и стоит у порога разомкнутых уст. Но не для того, чтобы покинуть их. Нет. No es posible. Сидя перед погасшим экраном, Пирс вдруг испугался, ему захотелось лишь одного: обнять ее прямо сейчас и сказать: «Я не всерьез, честное слово, послушай, я тебя просто разыгрывал».
Ему не хотелось власти над ней; он хотел — и этого не могла дать никакая доступная магия — быть ею, быть внутри ее, когда она ощущала все то, что он причинял ей или помогал почувствовать. Не насовсем, конечно, не постоянно, лишь в тот момент, когда она достигала высшего накала; но тогда он жаждал этого сильно, непреклонно, до крайности.
А что, если ему придется каждый раз заходить дальше, подталкивать сильнее, чтобы загнать ее в эту плавильню, во вселенский жар, и себя вместе с ней, туда, где он хотел оказаться, всегда и только хотел там оказаться, какие бы резоны еще ни придумывал? С ней, через нее и в ней. In ipsam et cum ipsa et per ipsam[39]{177}. Может, в какую-то из ночей он подтолкнул ее слишком сильно, vacatio стала необратимой, постоянной, и через отверстые уста сами их личности покинули тела: mors osculi называлось это, morte di bacio, Смерть Поцелуя{178}, возможная (свидетельствует Марсилий, а также дон Иоанн Пикус{179}) для душ беспокойных, слишком непрочно держащихся на плоти.
Еще раз говорю тебе: нет. Повторено трижды подряд.
Тревожный и напуганный, он пошел в спальню, чувствуя близость Роз. На стене, сбоку от кровати, висела созданная им эмблема: старая рамка, новое фото. Брак Агента и Пациента.
Надо бы ее убрать, и не следовало ему сидеть перед ней так долго, но теперь уж поздно. Он лег, но не на свою кровать, а на другую, на голый матрас, вдохнул его и ее запах, вглядываясь и вслушиваясь в себя в поисках того же самого: ее следов. Даже в жару своем он ощутил знакомый лихорадочный озноб: предвестие того, что скоро и неминуемо целое пиршество симптомов предъявят тебе, и будешь ты ими давиться, пока не умрешь или не поправишься.