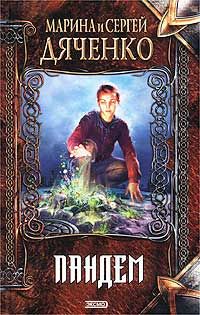— Хорошо, — сказала Вика, и Юрчик удалился. Вика пожалела, что разговор у них получился дурацкий и доверия теперь не выйдет — а она хотела спросить этого симпатичного, в общем-то, пацана, что за сила заставляет его работать летом в кафе, когда можно, например, рвануть с друзьями в красный слой, и никто из взрослых не сможет тебя остановить…
А можно и вовсе спросить его, зачем официанты в кафе, где достаточно просто ткнуть пальцем во флажок и вытащить поднос из автомата. А Юрчик, слегка обидевшись, ответил бы, что, во-первых, это не так-то просто, а во-вторых, у него здесь психологическая практика, человек, приходящий в кафе, желает встретить тут тоже человека…
Вика потерла переносицу. Общая проблема — бесконечные внутренние диалоги. Пандем, уходя, оставил лакуну; ее приходится забивать всяким мусором, вроде вымышленных разговоров с бритым Юрчиком-официантом. Кстати, откуда традиция писать имена на лбу? Оттуда же. Никому неохота слушать, как к тебе обращаются просто «мальчик»…
Юрчик молча принес заказ; зеленовато-желтый Фа состоял из трех блюд и в самом деле был вполне «нормальный», как выразился мальчик. Вино проскользнуло внутрь бесследно, как прохладная вода; не почувствовав тяжести, Вика поднялась из-за стола, кивком поблагодарила Юрчика и направилась к транспортерам.
Любимая беседка Виктории Викторовны была выстроена в парке — ее нелегко было найти, если не идешь на встречу с Пандемом. Каменная башенка в зарослях каких-то экзотических лопухов высотой в человеческий рост; Вике пришлось пригнуться в дверях.
Внутри было темно. Сверху, из окошка в потолке, падал круглый луч зеленоватого солнца. На бесформенном кресле можно было сидеть, а можно было лежать; экрана не было. Вика терпеть не могла беседки с экраном.
Она легла на спину. Вытянула руки над головой. Потянулась. Сладко хрустнули суставы.
— Где она сейчас?
«В красном слое, в тамбуре. Решают проблему, чем будут платить за переход».
— Ну, что ее ждет? Ее там унизят? Совратят? Обругают?
«Перестань. Пошатается по местным достопримечательностям, посмотрит гладиаторские бои… Ты знаешь, подлинные асоциалы живут в глубине. На поверхности — сплошь экскурсоводы. Им интересно жить за счет туристов».
— Главный вопрос… Они туда поперлись только из любопытства или?..
«Никаких „или“. Ей не о чем разговаривать с тамошними аборигенами. Ну и она, прости, слишком деликатная, чтобы реализовать себя в красном слое».
— Ну и слава богу. — Виктория Викторовна села, нащупала сигарету в кармане, щелкнула пальцами, закурила. — Что Шура?
«Плохо».
— Ну так помоги ему! Пандем ты или кто?
«Он сам».
— Тем лучше, — Виктория Викторовна смотрела, как тает дым в зеленоватом солнечном столбе. — Юрчик подкинул зеленовато-желтый Фа… Что могло быть лучше?
«Юрчик взял высоко. Вся желто-зеленая гамма, но ниже. Впрочем, разница в таких нюансах, что твой язык и не уловил бы…»
Виктория Викторовна хмыкнула.
На третье утро после своего восьмидесятивосьмилетия Андрей Георгиевич Каманин заплыл на далекий остров, вот уже несколько лет служивший ему беседкой.
Зеленый берег казался совсем близким, хотя вплавь до него было полтора часа пути, если быстро, и два с половиной, если медленно. На острове не было ничего, кроме камней; правда, камни будто пытались скрасить разочарование случайного робинзона таким разнообразием форм и расцветок, что Андрей Георгиевич, хоть и мог обойти остров по периметру за три минуты, хоть и бывал здесь раз сто — не уставал находить новые «скульптуры» и удивляться новому рисунку на облизанных морем сколах.
— Мне восемьдесят восемь. Я прожил почти вдвое больше, чем мой отец.
«Ты плохо себя чувствуешь?»
— Наоборот… Я чувствую себя лучше, чем когда мне было пятьдесят. Мне постоянно чего-то хочется — двигаться, жить… Я планирую работу на пять лет вперед… Вот этот план меня и беспокоит, Пан.
«Ты боишься?»
— Что, если я попрошу тебя не дать мне умереть? Нет, погоди… По-другому… Сколько стариков и старух из тех, что умирают ежегодно… Сколько из них просят тебя сохранить им жизнь?
«Андрей…»
— Я догадываюсь — они просят все. С точки зрения любого человека — это свинство, что он должен умереть. Земля не обеднеет, если кто-то один поживет еще хотя бы лет десять. У всех дела, у всех работа… У лентяев — удовольствия… Это затягивает, день за днем, год за годом… Когда третьего дня мне исполнилось восемьдесят восемь — да я холодным потом покрылся, Пан!
«Ты будешь жить еще долго, я тебе обещаю. Минимум до ста».
— Мы, наше поколение… Может быть, последние из тех, кто помнит мир, каким он был.
«Ты преувеличиваешь. Твои дети тоже помнят».
— Да, да… Наверное. Я не о том. Мы утешаем себя: я сделал… построил… оставил… написал… это не умрет, когда я умру. Мои дети родят внуков, а они — своих детей. Они будут похожи на меня. Они будут меня помнить. Я не умру…
«Но это в самом деле так».
— Тебе легко говорить, Пан… Извини, я сумбурно… Видишь ли, когда человек медленно угасает, вот как мой отец… особенно если ему при этом нет и пятидесяти… это ужасно. Но я чувствую себя слишком нужным, слишком сильным, как бы сформулировать… Я привык жить, Пан. Похоже будет… Это будет похоже на убийство. Ты меня убьешь.
Андрей Георгиевич замолчал. Две чайки медленно прошли над его головой — два силуэта с неподвижно распростертыми крыльями.
— Я не решился бы всего этого тебе сказать на берегу. Я три дня собирался, чтобы все это тебе сказать.
«Я знаю. Андрей, всякий раз, когда кто-то умирает — я умираю вместе с ним. Если ты видишь меня смертью с косой, аккуратно подкашивающей старую траву…»
— Нет, Пан. Нет, что ты.
«Знаешь, какое оптимальное отношение человека и смерти? Человеку приятно знать, что смерть есть, но к нему и его близким она отношения не имеет. В мире без смерти человеку скучно. В мире, где смерть вездесуща, человеку страшно».
— Ерунда. Мир без смерти больше всего устраивает человека. Ты сам говорил.
«Да, я говорил… Помнишь, как ты с Ромкой? Он был еще маленьким? „На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла“.»
— Не помню, — признался Андрей Георгиевич. — Черт, не помню… столько всего было…
«Шуркина свадьба. Ты читал Ромке сказку».
— Нет, не помню… Жаль. Пан… Ты все помнишь? Каждую секунду из моей жизни?
«Да».
— Могу я тебя попросить… В последние минуты напомнить мне что-то… по-настоящему ценное?