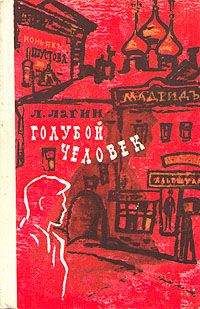– Да нет, – сказала Джейн, – я не о полиции. Перед нашим домом никого нет, вот о чем я говорю.
– Не может быть! – оскорбился Фрогмор. – Вечно ты что-нибудь выдумываешь!
Он посмотрел в щелку, потом раздвинул ее пошире.
– Ведь сегодня воскресенье! – вздохнул он с облегчением. – Как я мог об этом забыть! В воскресенье люди встают позднее. Они еще придут.
Ему было обидно такое невнимание к решающему дню его жизни. Он уже успел привыкнуть к славе и снова понял, что ему было бы невыносимо трудно возвращаться к прежнему, будничному существованию.
– Подождем! – сказал он. – Трое суток прождали, подождем и еще часок-другой.
– Конечно, подождем, – покорно согласилась Джейн.
Ее словно подменили. Ни разу за эти тяжкие часы она не подняла руку на богом данного супруга, ни разу не осквернила его мясистые уши упреками и оскорблениями. Боялась ли она потерять единственного близкого человека? Очень может быть. Полюбила ли она его, как часто вдруг начинают любить человека, которому уже недолго осталось жить? И это не исключено. Но главное, что произвело в ней столь разительный переворот, было то, что она перестала ощущать себя центральной фигурой в их маленькой, но недружной семье. Тысячи писем со всех концов страны, статьи и фельетоны, посвященные ему в сотнях газет и журналов, младенцы, нареченные его именем, богатство, которым чревата была его внезапная слава, все это заставило Джейн поверить, наконец, в исключительность ее постылого супруга.
– Конечно, подождем, – повторила она и поплелась на кухню приготовить себе чашечку кофе. Фрогмор еще в семь часов позавтракал.
Так прошел восьмой час, девятый, тридцать минут десятого…
Страшное подозрение, что о нем вдруг по какой-то неизвестной причине забыли, как дубиной ударило по истосковавшемуся бакалейщику. А что, если за ним не придут? Если его нарочно решили не трогать, и пусть он так и подыхает от чумы, раз он без сопровождения полицейского эскорта не согласен пойти на эпидемиологический пункт?
– Куда ты, дружочек? – спросила Джейн, увидев, что он поспешно натягивает на себя пальто.
– В аптеку. К Бишопу.
– Сам? Без полиции?
– Без полиции. Ну ее, эту полицию! Она никогда еще не появлялась вовремя. Сам пойду…
От возбуждения он никак не мог попасть рукой в левый рукав. Она ему помогла, подала шляпу.
– Может, все-таки лучше бы еще немножко подождать? – робко осведомилась она. – Они еще могут прийти. Ведь сегодня воскресенье. Ты ведь сам сказал… Все будут смеяться…
– Оставь меня! – взвизгнул Фрогмор и ударил миссис Джейн по щеке. – Им не к спеху, себе они сделали прививку. А во мне, я чувствую, как во мне просто кишат эти дьявольские чумные микробы. Я не могу больше ждать, черт вас всех побери!..
Всех, значит и Джейн! Впервые за четырнадцать лет он ударил ее, а не наоборот! Впервые за четырнадцать лет их совместной жизни он послал ее к черту! И, главное, раз он сам, по собственной воле отправится в аптеку, насмарку идут и слава и будущие кучи кентавров!
– Драться, негодяй ты этакий?! – вскричала Джейн. – Ты осмелился поднять руку на женщину, которая сделала тебя человеком?!.
Резким, наметанным движением руки она сбила с него шляпу, потом схватила его за лацканы пальто, швырнула на диван и принялась колотить по физиономии, по спине, по животу…
Он вырвался, подобрал шляпу и, словно не было предыдущих трех дней счастливой супружеской жизни, пустился в привычный бег вокруг стола. И так они бегали по меньшей мере четверть часа с короткими перерывами, чтобы Джейн, упаси боже, не задохнулась от одышки.
На этот раз примирения не наступило. Не было сладких рыданий на хилой груди Фрогмора, не было успокаивающих соображений о долгой совместно прожитой жизни. Воспользовавшись новым приступом одышки у Джейн, Фрогмор выбежал из дому, громко захлопнув за собой дверь.
Был на исходе десятый час утра двадцать шестого февраля.
Судья Памп, человек рыхлый и немолодой, чувствовал себя неважно. Возможно, это был небольшой грипп. Лично судья объяснял свое недомогание последствиями прививки противочумной вакцины. Как бы то ни было, но температура у него действительно повысилась. Его уложили в постель и на какое-то время лишили возможности чинить правосудие.
Сам по себе подобный факт не заслуживал бы особого внимания, если бы из-за болезни достопочтенного господина Пампа не пришлось отложить на неопределенное время судебную сессию. Она должна была открыться двадцать седьмого февраля. А ведь в кремпской тюрьме сидело около ста человек, ожидавших этой сессии, которая должна была определить на годы их дальнейшую судьбу, и по меньшей мере сорок из них ждали ее с июня прошлого года.
Неприятное известие об отсрочке сессии пришло в тюрьму вечером двадцать пятого февраля, в субботу. Уже в восемь часов, когда камеры на ночь заперли, многие заключенные, разочарованные в своих ожиданиях, были сильно возбуждены. К утру возбуждение усилилось. Быть может, этому содействовала яркая солнечная погода, которая особенно усиливает горечь заточения. И если бы не старший надзиратель Кроккет, который был столь же набожен, сколь и жесток, и о котором было известно, что он ведет строгий учет посещаемости церковных служб, мало кто пошел бы в тот день в часовню. Но смешно было из-за каких-нибудь полутора часов создавать себе излишние трудности, особенно накануне судебной сессии: судья Памп тоже славился высокой религиозностью.
Поэтому, когда в десять часов утра, как обычно, гулко затрещал мощный электрический звонок, призывая всех в зарешеченный дом господень, свыше трехсот человек из четырехсот восьмидесяти трех заключенных, гулко стуча каблуками по железным ступенькам, спустились в подвальное помещение, переделанное в часовню из картофельного склада. Здесь пахло мышами, свечами, дурно мытым телом и прогоркшей олифой.
Нужно сказать, что среди тех, кто в это утро спустился в часовню, некоторые были движимы и религиозным чувством и довольно многие – тоской и желанием хоть как-нибудь развлечься. В тюрьме ни один день недели не отличается весельем. Но в воскресенье, когда к тому же не бывает ни почты, ни приема посетителей, ни работ в тюремных мастерских, можно просто удавиться от тоски.
Купер тоже пошел в часовню. В Боркосе он не очень увлекался церковными делами, но здесь ему вдруг захотелось помолиться. С ним пошел и его новый друг, сосед по камере Нокс – истопник местного кинотеатра. Два крепких и не старых парня, они особенно быстро подружились, когда узнали, что оба очутились за решеткой по милости Фрогмора, бешеного бакалейщика из Союза атавских ветеранов.