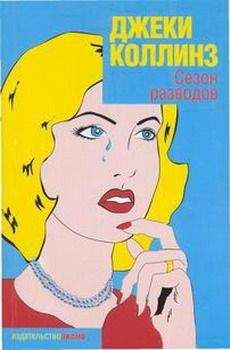Она говорила насмешливо, и все же ему тягостно было слышать такие слова; Господи, как же она ругается и всегда ругалась, словно озлобленный ребенок, а кому же ее укорять.
«Утешила ли тебя моя мать? — спросила она. — Ты овладел ею? Сколько раз?»
«Твоя мать, дитятко? Кто твоя матушка?»
«А кто же, как не та великолепная дама, которую я тебе привела?»
«Она?»
«Она — моя мать; ее также зовут Амфитритой.{199} Имя же ее матери — Ночь».
На миг он будто вспомнил то, чего не видел сам: зеленый луг, женщину, идущую к ним со словами, что она есть Постижение; и одежды ее распахиваются. Он содрогнулся.
«Она дала ему просимое, — сказала Мадими. — Ведомо ли тебе сие? Ныне золота у него в избытке. Пусть ест его и пьет, коль хочет».
«Он стал большим человеком, — сказал Джон Ди. — Его зовут теперь „доктор“, dominie, он всеми любим».
«Он не восхвалил меня. Не важно. Пусть тешится, чем знает».
«Мы были послушны тебе, Госпожа, — прошептал Джон Ди. — А теперь мы врозь, и разлад не одолеть; его супруга уехала; моей причинена боль, которая не скоро утихнет».
«Я знаю это. Я знаю и сожалею. Отчасти».
«Я совершил бы еще многое за тот великий дар, что был мне обещан, — сказал он. — Знание Бога, Его замысла в сем начинании, подлинное знание. Я сделал бы все, что велено. Да я и делал. Но мне, мне не ответили».
«Ибо, — сказала она тихонько, — среди моих даров нет того, о котором ты просишь».
«У тебя его нет?»
«Нет, хоть я и обещала его. Я дала то, что было: Силу. Я не смогла бы дать Постижение».
Огромный камень, неподвластный растворителям, вырос в его груди, как холодный осадок в перегонном кубе; он не исчезнет никогда. Джон Ди знал, что должен нести его и не спрашивать почему, но он не мог этого вынести, он должен был спросить.
«Тогда зачем ты велела нам такое? — прошептал он. — Ответь. Зачем ты потребовала от нас совершить великий грех, обменяться женами? И мы совершили его, думая, что таково повеление свыше во имя священной цели. Зачем?»
«Для своей лишь забавы, — сказала она. — Дабы наблюдать за этим. Я и подобные мне собирались здесь».
Стоя на коленях, он почувствовал, что падает; комната опрокинулась, как блюдо, из которого его выплеснут вон, навсегда.
«Тогда вы — падшие ангелы, — сказал он. — Вы падшие, а я проклят».
«Старик, — сказала она почти мягко, почти нежно. — Глупый старик. Ужели ты не знал? Ужель не понимал? Все ангелы падшие».
«Все? Как — все?»
«Все ангелы падшие. Потому-то мы и ангелы. Не жалей нас; так есть и так было всегда».
«Как же тогда вы можете славить Бога, возносить молитвы, благословлять, обладать знанием?»
«Как? А разве недоступно сие падшим людям? Но довольно. Теперь внимай, ибо я буду пророчествовать. На небесах идет война, война всех против всех, и она отразится на земле подобной же бранью. Так должно быть».
«Новая религиозная война, — предположил он. — Церковь Христова разделена. В распрях прольется новая кровь».
«Ха, — сказала она. — То война меньшая. Великую войну начнут все церкви Христовы против врагов своих — тех, кто вызывает богов, дэмонов и ангелов неба и земли из их обиталищ. Всех, кто свершает сие, будут жечь, бросать в огонь, как бумагу».
«Я не вызывал злых духов, я…»
«И тебя сожгут. Внемли же и сохрани сии слова в сердце своем: беги, но опасайся того, чтобы из рук одних сил не попасть в руки других. И берегись: каждая сила содержится во всех остальных».
Он плакал и слышал ее голос сквозь душащие слезы.
«Не понимаю, о чем ты, — ответил он. — Но я сделаю, как ты скажешь, если смогу».
«Полно тебе, старче, — сказала она. — Ну что ж. Ухожу на войну. Ты не увидишь меня более. Как тебе это понравится?»
«Не нравится вовсе. Я хотел бы видеть тебя часто, госпожа».
«Ты плачешь? Не плачь. Придвинься. Поцелуй меня в лоб, скажи, что любишь. Разве ты не любишь меня?»
«Люблю. Я люблю тебя, дитятко».
«У меня есть для тебя подарок. Ближе».
«Госпожа, я боюсь ваших даров».
«Сэр, вы правы в страхе своем. У меня тут есть такие штучки, которые низвергнут целые народы».
«Мне не надо этого».
«Придвинься. Ближе. Мой подарок — тебе одному».
Джону Ди вспомнилось, как дети приносили сокровища в пустых ручонках, и ему приходилось спрашивать, что это такое, прежде чем поблагодарить (что это, детонька? Золотое колечко? Благодарствую за золотое колечко).
«Что это?» — спросил он.
«Это ветер, подвластный мне».
«Не дышит ли ветер, где хочет? — сказал Джон Ди. — Я не знаю, как им управлять».
«Приказывай ему построже, тогда он подчинится. Предателю я дала дурное золото. Но этот ветер хорош. На. Теперь он твой. Прощай».
С содроганием, как от касания холодной стали, пробежавшим от хребта до макушки, он почувствовал пожатие маленькой холодной руки. Затем все исчезло. Он ощутил ее уход, словно из глубины его сердца выдернули жилу или нерв; и сквозь брешь задул холодный ветер.
Сгорел дом со всем движимым имуществом, и потрясенному семейству открылось, где скупой дядюшка некогда спрятал деньги. Армия вытоптала поле бедного фермера и забрила в солдаты его старшего сына, мальчик дослужился до генерала и купил отцу новые поля — сколько хватает глаз. Иову вернули стада, и даны ему были новые дети и новая мудрость, но разве не сидел он и не плакал над могилами первородных детей своих?
Уже давно она сказала им, что грядет новая эпоха и многие из ныне живущих увидят ее, прежде чем глаза их закроются навеки; ко многим она подкрадется незаметно и многих ошеломит. Многое будет отнято, и ценности станут хламом, но на каждую утрату найдется равное возмещение — однако не здесь, а в некой дальней сфере.
Не прошло и десяти дней с той полуночи, когда она впервые говорила с ним из стекла — лишь для того, чтобы сказать «прощай», — как Джон Ди записал в своем дневнике: ЭК наконец открыл мне великую тайну, благодарение Господу!{200}
Все оказалось просто, как и подобает, — он знал, что это должно быть просто, ибо так говорилось во всех книгах. Келли рассказывал, еле сдерживая смех; да и рассказ не занял много времени. Он поделился порошком в простом бумажном кульке, словно отвесил унцию перца или горчицы. Я ничего не теряю, отдавая часть, сказал Келли; ничего. Как в детской загадке: Что я даю, а другие берут, но все же я с ней не расстаюсь?