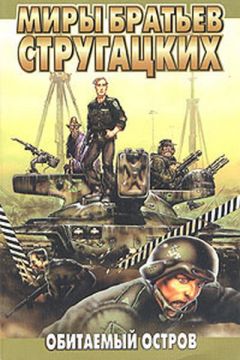– А что ему нас жалеть? – подал голос Орешник, до глаз замотанный грязными бинтами. – Он сам солдат. Когда это солдаты нас жалели? Не родился еще солдат, который бы нас пожалел…
– Голубчики, голубчики! – сказал строго принц-герцог. – Мак – наш друг. Он хочет нам добра, хочет уничтожить наших врагов…
– А вот что получится, – рассудительно сказал плешивый из нездешних. – Положим даже, что варвары будут сильней солдат. Побьют они солдат, порушат ихние проклятые вышки, захватят весь Север. Пусть. Нам не жалко. Пусть они там режутся. Но польза-то нам какая? Нам тогда совсем конец: на юге будут варвары, на севере опять же варвары, над нами – все те же варвары. Мы им не нужны, а раз не нужны – под корень нас. Это одно… Теперь положим, что солдаты варваров отобьют. Отобьют они варваров, и покатится вся эта война через нас на юг. Что тогда? Тогда опять же нам крышка: на севере солдаты, на юге солдаты, и над нами солдаты. Ну, а солдат мы знаем…
Собрание зашумело, зажужжало, что правильно, мол, плешивый излагает, все точно, но плешивый еще не кончил.
– Дайте досказать! – возмутился он. – Что вы расшумелись, в самом деле? Это же еще не все. Еще может быть, что солдаты варваров перебьют, а варвары – солдат. Вот тут вроде бы нам самое и жить. Так нет же, опять не получается. Потому что еще упыри есть. Пока солдаты живы, упыри прячутся, пули боятся, солдатам велено упырей стрелять. А уж как солдат не станет, тут нам полная крышка. Съедят нас упыри и костей не оставят.
Эта идея страшно поразила собрание. «Правильно говорит! – раздались голоса. – Надо же, какие головы у них на болотах… Да, братья, про упырей-то мы и забыли… А они не спят, они своего ждут… Не надо нам ничего, Мак, пусть идет, как идет… Двадцать лет худо-бедно прожили, и еще двадцать протянем, а там, глядишь, и еще…»
– И разведчиков ему отдавать нельзя! – возвысил голос плешивый. – Мало ли что они сами хотят… Им что – они и дома не живут, Шестипалый вон днюет и ночует на той стороне, срам сказать – грабит там и водку пьет. Им хорошо, они вышек проклятых не боятся, головы у них не болят. А обществу-то каково? Дичь на север уходит, кто к нам ее с севера гнать будет, если не разведчики? Не давать! И приструнить их еще надо хорошенько, совсем разбаловались… Убийства там учиняют, солдат крадут и мучают, как и не люди… Не пускать! Совсем разбалуются…
– Не пускать, не пускать… – подтвердило собрание. – Как мы без них? А мы их кормили-поили, мы их родили да вырастили, чувствовать должны, а они, знай себе, на сторону смотрят, как бы посвоевольничать…
Плешивый, наконец, угомонился, сел на место и принялся жадно глотать остывший чай. Собрание тоже угомонилось, утихло. Старики сидели неподвижно, стараясь не глядеть на Максима. Бошку, уныло кивая, проговорил:
– Надо же, какая у нас несчастная жизнь! Ниоткуда спасения нет. И что мы кому сделали?
– Рожали нас зря, вот что, – сказал Орешник. – Не подумавши нас рожали, не во-время… – Он протянул пустую чашку. – И мы зря рожаем. На погибель. Да, да, на погибель…
– Равновесие… – произнес вдруг громкий хриплый голос. – Я вам уже говорил это, Мак. Вы не захотели меня понять…
Непонятно было, откуда идет голос. Все молчали, скорбно потупившись. Только птица на плече Колдуна топталась, открывая и закрывая желтый клюв. Сам Колдун сидел неподвижно, закрыв глаза и сжав тонкие губы.
– Но теперь, надеюсь, вы поняли, – продолжала вроде бы птица. – Вы хотите нарушить это равновесие. Что ж, это возможно. Это в ваших силах. Но спрашивается – зачем? Кто-нибудь просит вас об этом? Вы сделали правильный выбор: вы обратились к самым жалким, к самым несчастным, к людям, которым досталась в равновесии сил самая тяжкая доля. Но даже и они не желают нарушения равновесия. Тогда что же вами движет?…
Птица нахохлилась и засунула голову под крыло, а голос все звучал, и теперь Гай понял, что говорит сам Колдун, не разжимая губ, не двигая ни одним мускулом лица. Это было очень страшно, и не только Гаю, но и всем собравшимся, даже принцу-герцогу. Один лишь Максим смотрел на Колдуна хмуро и с каким-то вызовом.
– Нетерпение потревоженной совести! – провозгласил Колдун. – Ваша совесть избалована постоянным вниманием, она принимается стенать при малейшем неудобстве, и разум ваш почтительно склоняется перед нею, вместо того, чтобы прикрикнуть на нее и поставить ее на место. Ваша совесть возмущена существующим порядком вещей, и ваш разум послушно и поспешно ищет пути изменить этот порядок. Но у порядка есть свои законы. Эти законы возникают из стремлений огромных человеческих масс, и меняться они могут тоже только с изменением этих стремлений… Итак, с одной стороны – стремления огромных человеческих масс, с другой стороны – ваша совесть, воплощение ваших стремлений. Ваша совесть подвигает вас на изменение существующего порядка, то-есть на изменение стремлений миллионных человеческих масс по образу и подобию ваших стремлений. Это смешно и антиисторично. Ваш отуманенный и оглушенный совестью разум утратил способность отличать реальное благо масс от воображаемого, – это уже не разум. Разум нужно держать в чистоте. Не хотите, не можете – что ж, тем хуже для вас. И не только для вас. Вы скажете, что в том мире, откуда вы пришли, люди не могут жить с нечистой совестью. Что ж, перестаньте жить. Это тоже неплохой выход – и для вас, и для других.
Колдун замолчал, и все головы повернулись к Максиму. Гай не вполне уразумел, о чем тут шла речь. По-видимому, это был отголосок какого-то старого спора. И еще ясно было, что Колдун считает Максима умным, но капризным человеком, действующим скорее по прихоти, чем по необходимости. Это было обидно. Максим был, конечно, странной личностью, но себя он не щадил и всегда всем хотел добра – не по капризу какому-нибудь, а по самому глубокому убеждению. Конечно, сорок миллионов людей, одураченных излучением, никаких перемен не хотели, но ведь они были одурачены, это было несправедливо…
– Не могу с вами согласиться, – холодно сказал Максим. – Совесть своей болью ставит задачи, разум – выполняет. Совесть задает идеалы, разум ищет к ним дороги. Это и есть функция разума – искать дороги. Без совести разум работает только на себя, а значит – в холостую. Что же касается противоречий моих стремлений со стремлениями масс… Существует определенный идеал: человек должен быть свободен духовно и физически. В этом мире массы еще не сознают этого идеала, и дорога к нему тяжелая. Но когда-то нужно начинать. Именно люди с обостренной совестью и должны будоражить массы, не давать им заснуть в скотском состоянии, поднимать их на борьбу с угнетением. Даже если массы не чувствуют этого угнетения.