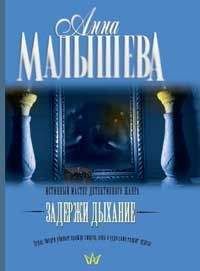Он бросает быстрый взгляд на пустой двор дяди Рафаэля, где, как ему кажется, ничего не изменилось. Даже груда мусора у сарая все та же, и та же грязно-белая курица роется в ней, вытягивая тощую ощипанную шею. Христиан боится смотреть на собственный дом, ему кажется, уж с нимто обязательно что-то случилось, но все же поворачивается и смотрит, смотрит, пока его не окликает сзади знакомый, почему-то испуганный голос:
— Христиан?! Вернулся?!
Он оборачивается — невероятно, к нему спешит тетя Венера! Но какая она стала сухая, маленькая, какое сморщенное у нее лицо! В довершение всего она трезва, и халат на ней чистый, новый, в лиловых крупных цветах.
— Я… ненадолго… — бормочет он, не находя других слов. — Меня отпустили всего на неделю.
Он хочет объяснить, что из этой недели шесть дней уйдет на дорогу, три туда и три обратно, но тетя Венера не слушает. Она всплескивает коричневыми крепкими руками, усеянными веснушками, и хочет говорить сама. Христиан не сразу понимает, о чем твердит ему соседка.
— Хорошо, что хоть вообще вернулся. — Она обшаривает его лицо маленькими черными глазками с обвисшими веками, похожими на куски сырого теста. — Потому что как хочешь, Христиан, но дальше так не пойдет. Я тоже не каторжная, с теткой надо что-то решать. Сам знаешь, я всегда помочь готова, но у меня своя семья, Эльмиркины дети…
У него голова идет кругом, он испуганно припоминает то лето восемьдесят третьего года, когда между ними и соседями разгорелась вражда из-за беременности Эльмиры. И тут же спохватывается, что тогда девушке сделали аборт, за который заплатили все-таки Валленштейны, и внуков от Руди у тети Венеры быть не может.
— Ну, так что? — спрашивает тетя Венера.
— Хорошо, — говорит он единственное слово, которое приходит ему на ум.
— Значит, будешь оформлять ее в интернат? И давно пора, Христиан, у меня уже руки отнимаются ее ворочать. Взгляни на меня и на нее — она же в сравнении со мною слон!
— Кто? — испуганно перебивает он.
Соседка, собиравшаяся сказать что-то еще, осекается и смотрит на него странным, долгим и пытливым взглядом.
— Ну как это кто? — говорит она наконец. — Тетка твоя родная. Ведь не собака, не удавишь ее, не утопишь. Пристроить надо.
И тут до него доходит смысл ее болтовни, он понимает, что речь идет о тете Марии, и чувствует такое сильное головокружение, что должен ухватиться за низкий заборчик, чтобы устоять на ногах. Тетка все еще здесь! С кем же?! Неужели… Одна?!
Он лихорадочно роется в памяти, как в старом тряпье, побитом молью, выворачивает ее наизнанку, но из складок и прорех выпадают только те факты, которые ему давно известны. Там есть все — и весна восемьдесят восьмого года, когда умерла от рака поджелудочной железы мать, и осень того же года, когда Руди уехал в Германию. Старший брат давно вступил в немецкое землячество, усердно учил язык, и как только закончил училище и получил диплом слесаря по автоделу, засобирался в путь. Дед одобрял его решение, хотя не забывал напоминать внуку, что он, раз уж на то пошло, куда больше чех, чем немец. Отец, оглушенный смертью жены, тоже не сказал ни слова против. Причина его равнодушия скоро стала всем ясна. Он начал пить, и наливал ему не кто иной, как дядя Рафаэль, который обрадовался тому, что нашел нового товарища.
Все заботы о тетке еще во время болезни матери перешли к Христиану, с детства привыкшему к этим тяжелым и неприятным обязанностям. Братья от них увертывались, Руди — с грубой прямотой, хитрюга Альбрехт — придумывая какой-то предлог. Теперь Христиан часто вспоминал слова матери, сказанные ею в какой-то яркий солнечный день, когда тетя Мария грелась во дворе на припеке. «Если мы все вдруг умрем, она не заметит и горевать не будет!» Тетка, в самом деле, не заметила, что исчезла женщина, ухаживавшая за ней долгие годы, изо дня в день. Она по-прежнему поглощала еду в огромных количествах, теперь уже одну кашу без масла, потому что наступили тяжелые времена для семьи, которая и всегда-то жила туго.
В девяностом году Альбрехт, которому исполнилось двадцать два и который как раз оканчивал политехнический институт, внезапно всех потряс, заявив, что женится и уезжает… В Израиль! Его невеста, девушка из самого престижного района города, ни разу не появилась в землянке на краю федоровского оврага. Альбрехт стыдился показать дочери лучшего в Караганде зубного врача эту вросшую в землю хибарку, спивающегося отца, чудаковатого деда и, главное, тетю Марию. Если бы не тетя, догадывался Христиан, знакомство могло и состояться, но при существующих обстоятельствах Альбрехту лучше было назваться сиротой.
Средний брат уехал в начале июля. Вскоре после этого отец впервые явился домой не на своих ногах. Его приволок на спине дядя Рафаэль, скрюченный, жилистый и хотя ужасающе худой, но сильный. Свалив приятеля на топчан в сенях, он принялся утешать деда, выбежавшего из своей каморки с заводным паровозом в руках — кто-то принес ему чинить игрушку.
— Чего он так расстраивается, подумаешь, сын на еврейке женился! — разглагольствовал дядя Рафаэль, наполняя сени удушливым перегаром. Его большая пенсия по инвалидности, полученной в шахте, давно превратилась в гроши, но он все равно умудрялся напиваться каждый день. — Я бы радовался, например, если бы мои бандиты на еврейках женились и в Израиль уехали. Да только кому они такие нужны?
— Он расстраивается не поэтому, — вздыхал дед, осматривая неподвижное тело сына. — Ему другое обидно…
На следующий день, очухавшись после мертвецкого сна, отец незаметно исчез из дома и снова вернулся в бессознательном виде, на плечах дяди Рафаэля, который, судя по всему, считал своим долгом доставлять друга обратно. Вскоре обнаружилось, что отец тайком унес часики покойной жены, лежавшие за стеклом в серванте, новые ботинки Христиана и вещи, взятые дедом в починку, в их числе тот самый паровоз. После этого случая дед слег и больше уже не встал. Он даже не сделал попытки образумить сына, пустившегося во все тяжкие, потерявшего работу, а вскоре и уважение соседей.
Дед умер 1 сентября того же года, в прохладный ясный день, когда по улицам Федоровки тянулись к школе маленькие первоклассники с букетами астр и георгинов. Старик лежал на продавленном диване в зале, глядя в потолок, Христиан, примостившись рядом на табуретке, возился с иглой и нитками, пытаясь самостоятельно заштопать дыру на свитере. У стола, спрятав опухшее лицо в ладонях, сидел отец, страдающий от тяжкого похмелья.
Дед, не отрывая взгляда от неровностей потолка, вдруг заговорил и, к удивлению Христиана, начал рассказывать историю, которая давно уже не звучала в этой комнате, где когда-то собиралась вся семья. Это была история о Барбароссе, легендарном германском императоре, о его жизни и подвигах, и о нелепой смерти, и о пещере в горах Тюрингии, где он спит с шестью своими верными рыцарями… Христиан слушал, как прежде, затаив дыхание, но ничто в этой истории уже не казалось ему похожим на их жизнь, на их дом. Загадка, которая мерещилась ему в детстве, исчезла, осталась только легенда. Дед начал рассказывать о рыжей бороде Барбароссы, которая все растет и когда-нибудь трижды обовьется вокруг каменного стола, и тогда император проснется и вновь встанет во главе своих войск… Но тут отец, ерзавший на скрипучем стуле, вдруг вмешался, чего никогда прежде не бывало, и грубо оборвал рассказ: