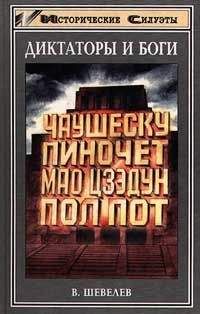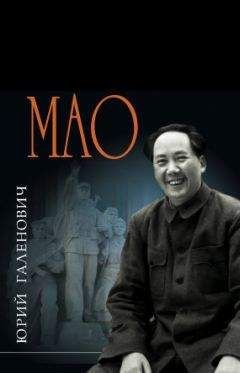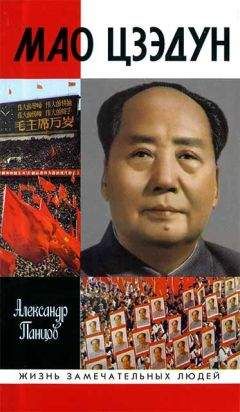Старик и сам не сумел бы объяснить, почему он не сунулся ни в одну из свободных кабин, хотя у него была веская причина спешить. Иногда его трусость проявлялась в виде довольно странных поступков. Он потратил пару лишних секунд на то, чтобы добраться до самой дальней, закрытой кабины, вставить палец в отверстие и дернуть дверь на себя. Та распахнулась с ржавым стоном.
Неужели он ожидал, что какой-нибудь придурок будет торчать здесь, заслышав шум приближающихся машин? Конечно, нет. Еще меньше он рассчитывал увидеть внутри кабины служащего мотеля. Точнее, БЫВШЕГО служащего.
* * *
Равиль Бортник не сказал «Привет!», «Добро пожаловать!» или «Надеюсь, вам у нас понравится!». Он даже не сказал «Проваливай отсюда, чертов педик!». Он не мог ничего сказать. В его легких уже начался процесс разложения, и оставшееся в них ничтожное количество воздуха было изрядно разбавлено продуктами гниения. Бортник был повешен на собственном ремне, который глубоко врезался в горло. Это обстоятельство до неузнаваемости изменило лицо трупа, превратив его в синий вздувшийся мешок.
Равиль не «висел», а «был повешен». Старик четко улавливал разницу, поскольку вначале увидел изуродованные босые ноги Бортника, и там, где тот шаркал подошвами по стенкам, дергаясь в петле, остались следы ободранной ржавчины. По вывалившемуся языку и открытым глазам мертвеца ползали мухи. Это сразу же напомнило старику Михраджана. Но Михраджан был жив, чего не скажешь о бедняге в сортире. Вдобавок ко всем имеющимся неприятностям к Бортнику уже подбирались муравьи, спускавшиеся по ремню с крыши сортира.
Старик не мог определить, сколько времени прошло с момента смерти. По правде говоря, он ни о чем таком и не подумал. Он даже сохранил прежний ритм дыхания. Невероятно, но он не издал ни звука и не побежал сломя голову обратно, под защиту клона и пистолетов. Вместо этого он быстро расстегнул брюки, деловито завернул за угол и облегчился с такой скоростью, словно страдал кровавым поносом. И только потом скорчился от нахлынувшего на него черного ужаса и долго не мог разогнуться.
Облик повешенного отпечатался в мозгу в таких подробностях, как будто перед глазами болталась фотография, прилепленная скотчем ко лбу. Даже неоновое сияние, которое служило фоном всему этому кошмару, слегка померкло. В поддельный рай ворвался ураган страха и пронесся, оставив после себя вихри едкого пепла и тучи дохлых ворон, а те, что уцелели, галдели о смерти и разрушении…
Старик сжал руками череп, чтобы выдавить оттуда наваждение, и захлопнул рот, чтобы не заорать. Это вдруг стало самым главным – не заорать. Молчать, не навлекая на себя еще худшую беду…
В тишине и параличе прошла вечность, на протяжении которой он ощущал себя подожженным растением. Огонь едва не добрался до единственного капилляра внутри хрупкого ствола, по которому струились жизнетворные соки.
«Растение» стряхнуло опаленные листья, вырвало из земли корни, избавилось от стиснувшей его коры и снова превратилось в почти человека.
Старик неверным шагом двинулся в сторону административного коттеджа, надеясь, что через минуту или две будет не слишком поздно убраться отсюда… Если остальные еще живы. О другом исходе он боялся даже думать. Без поддержки и руководства со стороны клона он был полным ничтожеством.
Женщина-колдунья, держись от меня подальше!
Тони Джо Уайт
Уже в десяти шагах от коттеджа он понял, что с Малышом все в порядке.
По крайней мере пока. Теплая волна какого-то чувства, похожего на любовь или радость по случаю обретения дома (но точно не любовь), накрыла его. Все здесь было поддельным – даже эмоции, щедро расточаемые клоном, словно искусственные запахи эссенций из бутонов пластмассовых цветов.
На первый взгляд ничего не изменилось. В отдалении чернел лес. Лента дороги была пуста. Тихо потрескивали остывающие двигатели грузовиков. Вывеска так же полыхала украденным болотным огнем. Мотель выглядел уютным, приятным во всех отношениях местечком для отдыха, почти оазисом спокойствия в пустыне насилия, садизма и произвола. Тем более странно, что этот невероятный заповедник до сих пор оставался неприкосновенным.
До старика наконец дошло, какого штришка недоставало для полноты иллюзии. Не хватало охраны. Обычно хозяева подобных не слишком доходных заведений не могли позволить себе нанять профессионалов. Поэтому чаще всего уединенные заправочные станции, мотели, придорожные закусочные и прочие привлекательные для «диких» объекты грабежа охраняли столь ненавистные старику собаки. Милые собачки вроде тех, озверевших, которые однажды чуть не загрызли его до смерти. И загрызли бы, если бы не Малыш. Это случилось в самом начале их путешествия, на краю пустыни…
Его передернуло при воспоминании о том случае. Будь старик повнимательнее, он давно заметил бы сетку вольера, поблескивавшую на заднем дворе. Но ему было не до наблюдений и сопоставлений.
Из коттеджа доносилась музыка, которая ему нравилась давным-давно и которая так же давно была объявлена дьявольским порождением и запрещена повсюду на мусульманских территориях. Это был горячий архаичный джаз. Черные свингеры старались вовсю. Жаркие пронзительные звуки медных духовых таранили уши и жирными волнами накатывали на диафрагму. Старик ощутил мощную, возбуждающую витальный центр качку даже через дверь. А когда он открыл ее, то расплылся в глупой улыбке. Труп, висевший в сортире, вдруг показался нереальным, как нелепая картинка на странице, случайно выскользнувшей из другой книжки сказок.
Интерьер коттеджа вполне оправдывал его самые лучшие ожидания. Все было исполнено пристойности в добром старом духе. Дубовая доска с ключами; брелоки в виде шишек с выдавленными на них номерами; десяток потертых кожаных кресел, принявших очертания некоего универсально-усредненного седалища; потемневший от времени линолеум; холодильник эры округлых форм; телевизор без этих новомодных штучек для одушевленных придатков; антикварный приемник «Штромберг-Карлсон» 1932 года, из которого изливался поток свинга; наконец, импровизированная низкая стойка из составленных вплотную друг к другу трех столов-бюро. Столы были из тех, за которыми когда-то писались безопасные заменители снотворного вроде «Оливера Твиста», «Игры Джеральда» или «Доктора Живаго».
Главный приз торчал по ту сторону стойки. Это была огромная негритянка, о которой старик безнадежно грезил в пору полового созревания. Она (или ее точная копия) жила тогда в его квартале. С тех пор прошло по меньшей мере лет сорок, но «старушка» нисколько не изменилась. Воспоминание о ней сохранилось в памяти старика, как труп насекомого в янтаре. Он вдруг обнаружил его под слоем бесформенного и безликого шлака.