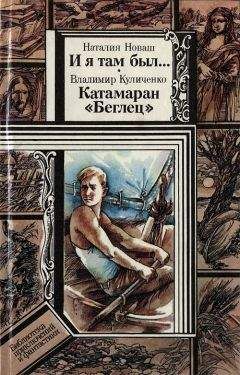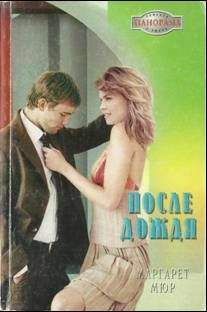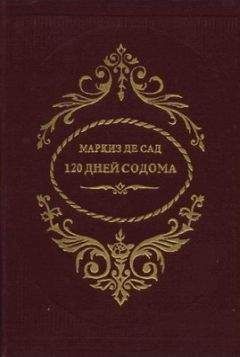За иллюминатором вновь посветлело, но теперь корабль всплывал плавно и медленно. До чего чиста, кристальна вода озера! Я увидел подножья гор в водорослях, в нагромождениях затопленных деревьев — всюду преобладал траурный цвет. А вот и наш катамаран, лежит кверху днищами, мачта сломана поперек, обломки покоятся поблизости, но не потускнела краска, еще озорно белеет надпись «БЕГЛЕЦ». Грустное зрелище… О чем я думал, глядя на останки нашей лодки? Душа наполнилась печалью, и я чувствовал себя свидетелем чьей-то чужой, не своей, трагедии.
На этот раз звездолет не достиг поверхности, хотя до нее оставалась, может быть, сотня метров, и вновь погрузился, завис во мраке.
Я лег на пол на бок, сунул руку под ухо. Воображение мое было воспалено, какие-то фантастические видения возникали из небытия, а тело охватывала слабость. Я попытался определить, хотя бы на день вперед загадать свою судьбу — что случится со мной завтра? — и тогда с успокоением заснул бы на этом холодном полу, но не находил однозначного ответа.
…Потом мне почудилось, как звездолет сдвинулся и медленно поплыл, рассекая непроглядную, мертвенно застывшую даль глубин. Плоский, точно скат, он плыл, окруженный серебристым сиянием своих иллюминаторов, — пришелец из Вселенной, удивительный странник, и под броней его корпуса, в бесчисленных отсеках и коридорах, без устали копошились роботы, заделывая пробоины, полученные в долгом многотрудном межпланетном переходе, а наверху, в командирской рубке, сидят ОНИ, расслабившись в мягких креслах и устало глядя на пронзенную тонким лучом толщу глубин, и тоже не знают, что будет с ними завтра.
Потом я увидел своих родителей: отца — рыжебородого, смеющегося, и мать — ласковую, чуткую; я смотрел на них с балкона, — они вышли из подъезда и пошагали в магазин (они обычно вдвоем туда ходили), отец в своем неизменном мешковатом темно-сером с полоской костюме, в широконосых грубо сшитых полуботинках, мать — в легком белом платье в желтые цветы, у отца в руке хозяйственная сумка. Я вижу, как отец весело щурится, повернув голову к матери — мать робко, по-девичьи смущенно, улыбнулась…
Сколько длилось мое забытье? Я очнулся, как показалось, от чьего-то прикосновения к плечу, вздрогнул и с ужасом огляделся в полумраке — никого рядом не было, но возле двери что-то белело. Подполз — несколько ломтей «Бухарин» и хлеб. Что ж, хоть какая-то забота.
…О чем же я думал? Ах, да!.. Хотя, впрочем… Да, да — о девушках. У меня много знакомых девочек, но Олька особенная. Вернусь, обязательно расскажу ей, какая она не похожая на других. Если, конечно, она пожелает со мной разговаривать — мы ведь, кажется, поссорились. Ну я-то зла против нее и обиды не держу, да и какая это была ссора, смешно вспоминать — усадил Ольку на мокрую после дождя скамейку: просто так, ради хохмы… Отчего меня на воспоминания потянуло? И почему я думаю об Ольке так, словно никогда уже ее не увижу? Может быть, я не верю, что выберусь отсюда? Я видел много фильмов, где отважные люди бесстрашно убегали из тюрем, но раньше мне не приходила в голову мысль, что в тюрьме тысячи заключенных, а убегает кто-то один.
Собственно, отчего я так усиленно об этом думаю? Ведь я уже не принадлежу даже самому себе, не распоряжаюсь собой — я не могу лишить себя жизни при желании, для этого под рукой нет никаких приспособлений, не успею умереть от голода — ведь не месяцы же они собираются тут задерживаться, под ремонтируются и вперед, ничто их больше не заботит.
«Не буду я жрать ваше подаяние!» — закричал я и вскочил, чтобы пнуть ногой принесенную жрачку, но больно стукнулся затылком о скошенный потолок. И сел, потирая ладонью ушибленное место… Нервишки сдают… Я подумал о том, что само нахождение в этой камере и есть медленная мучительная пытка. В каком бы положении я ни находился, постоянно чувствовал себя неудобно, неловко. Стоять — долго не постоишь сутулясь, сидеть и тем более лежать на непрогибаемом металлическом перекрытии не пожелаешь и заклятому врагу, вокруг склоненные стены, пустота, затянутый мраком глазок иллюминатора…
Не знаю, как развивалось это мое состояние, что вытворил бы я — непременно что-нибудь вытворил! — если бы в тот момент, когда отчаяние нестерпимо захлестнуло меня, в камеру не вошли два робота. Они встали у отворенной двери, глядя на меня, как мне показалось, с легкой иронией, и один из них жестом повелел мне выйти. «Неужели они наблюдали за мной?! — ошеломился я. — То есть, конечно, не наблюдали в прямом смысле, а каким-то образом фиксировали мое состояние, мои чувства, черт побери!»
Я вышел. В конце коридора лежали металлические ленты, прутья, стояли шалашом иссиня-черные, будто вороненые, плиты, но никого из ремонтников рядом не было, воздух в коридоре оказался достаточно свежим, чистым — возможно, работы прекратили именно для того, чтобы, выйдя из камеры, я не задохнулся. Мы миновали овальный зал, стены которого сплошь состояли из приборных досок с несметным числом лампочек, экранами, шкалами, а вдоль стен на равном удалении располагались пульты управления, и перед каждым пультом возвышалось на ножке изящное кресло. Зал, однако, был совершенно пуст, приборные панели не светились.
Я старался запомнить расположение лестниц и коридоров, по которым меня вели, но вскоре потерял им счет. Терялся в догадках — куда меня ведут? На беседу с Главным? Или просто-напросто переводят в другую камеру? А может, я заинтересовал их медиков? Я поглядел на шагавшего впереди робота: кожа у него на шее была без единой морщинки, по виду — толстая, пластиковая, плечи в меру широки, бедра узки, ноги длинные и ровные — спортивный парень. Когда я думал о нем, робот обернулся и глянул на меня. «Ничего плохого я о тебе не думаю, старина, — приободрил я его мысленно, — зла не держу, да и в чем тебя винить?»
Пожалуй, красноречивее всего о громадном объеме корабля говорило количество дверей, которые беспрестанно отворялись, раздвигались перед нами — им не было числа. Свернули в проем, за которым я приостановился от неожиданности — впереди хоть глаз выколи. Шедший позади охранник легонько подтолкнул меня в спину, и я, распластав руки, шагнул во тьму. Чуть позже я сообразил, что эта часть звездолета не освещена, наверное, потому, что где-то в космосе или при посадке электропроводка получила повреждения, которые еще не устранены. Роботы совершенно свободно ориентировались в темноте, я же полагался больше на свой слух, чутко улавливая характерный писк, время от времени издававшийся из груди шедшего впереди. Вдруг я наткнулся на какую-то стену и замер, не зная, как быть. Провожатых моих не было слышно. В замешательстве я принялся водить ладонями по стене, ища щель или какую-нибудь ручку. И в это мгновенье дверные половины начали расходиться и я увидел роботов, в ослепительном сиянии никеля стоявших на решетке в шахте. Та ли это была шахта, которая, вполне возможно, за всю историю космического корабля впервые приняла капсулу с землянами, или другая, осталось для меня неизвестным. В глубине ее покоился цилиндр. Робот проворно спустился по вертикальной лесенке, и, легко догадаться, меня не надо было упрашивать следовать за ним. Когда все разместились, робот задвинул щиток, шахта наполнилась водой, люк открылся, и цилиндрический снаряд покинул корабль. Не стану описывать дальнейший путь — я провел его в нетерпении и радостной тревоге. Чтобы там ни было, я знал, что там, на земле, буду чувствовать себя уверенней и не упущу случай, если, конечно, таковой представится. Впрочем, зачем выжидать какой-то случай, не проще ли испытать судьбу сразу, едва мы ступим на берег? Я оглядел охранников — никакого видимого оружия у них с собой не было. Они сидели калачиком, обхватив руками колени и устремив взгляд (почему-то показавшийся мне грустным) на противоположную стенку цилиндра, за которым понемногу светлела вода. Прошло еще несколько минут, и вот цилиндр уже скользит по гребням волн озера. Я задираю голову — солнце перевалило через зенит, длинные тени на склонах, небесный цвет густеет… Господи, как все это хорошо, как знакомо, божественно, восхитительно!