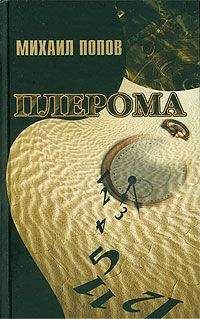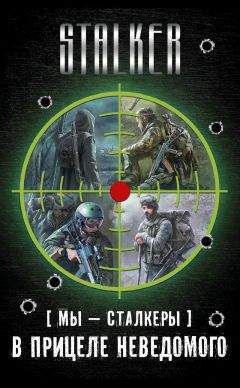В тот момент Вадим считал его отчасти виноватым в своем дурацком положении и ему казалось, что он продолжает действовать против него.
— А если я откажусь, меня возьмут в армию?
— Конечно, — усмехнулся прыщавый. — Это ведь не открытая форма туберкулеза.
Вадим был убежден, что все три медика, участвовавших в установлении нездоровой девственности его полового органа, едва сняв свои не слишком белые халаты, кинутся оповещать город об увиденном. Поэтому он прямо на следующий день явился в больницу и потребовал немедленного обрезания. То ли его решимость произвела должное впечатление, то ли в хирургии не было на этот момент плановых операций, но уже через день он попал на стол. Наркоз дали местный, но, видимо, изрядный, потому что сознание затуманилось. И вот сквозь этот полутуман Вадим стал свидетелем удивительного зрелища. Хирурги, видимо, для того чтобы упростить себе задачу, при помощи особых уколов сделали так, что оперируемый орган вознесся вертикально, при этом неестественно увеличившись в размерах. Известно, что лекари в большинстве своем — редкие циники и любят ляпнуть что-нибудь этакое в самый неподходящий момент, например, над вспоротым животом, в этот же раз у них был вполне законный повод для острословия. Волны веселья гуляли вокруг операционного стола, и Вадим, ввиду действия наркоза, очень был доволен тем, что является столь безусловным центром внимания, и даже сам пытался что-то промолвить. Особенно весело ему стало в тот момент, когда операционная вдруг начала быстро наполняться все новыми белыми фигурами. Это были практикантки из медучилища. Хотя все они несли на своих болтливых пастях марлевые повязки, их отношение к зрелищу выдавали голоса. Общее мнение курса можно было бы выразить в одной фразе: «Вот это да!» Вадим чувствовал себя героем и на столе, и потом во время путешествия на каталке в палату, и в первый час лежания на койке. Потом обезболивание стало проходить, появилась боль в том самом месте и стала понемногу нарастать. Вадима предупреждали, что «немного поболит», но не объяснили, сколько это «немного». Болело все сильнее и сильнее, он стал постанывать. Соседи по палате, тоже отлично осведомленные о веселом характере его операции, пытались его успокоить. «Ну, теперь все девки твои!» Наконец стало нестерпимо, Вадим начал ерзать, выгибаться мостом и… вдруг все прошло. Но тут же он почувствовал, что ему мокро, он лежит в луже. Осторожно подняв одеяло, Вадим обнаружил, что ему ничего не кажется — действительно лужа. Темная. Пожалуй, что лужа крови. Страха он не испытывал, но, вместе с тем, понимал, что это ненормально. «Ну что ты там хочешь рассмотреть, забинтовано же, небось, все», — сказал сосед. «Посмотрите, пожалуйста, что-то я не пойму», — попросил его Вадим совершенно спокойным голосом. Сосед, кряхтя, встал, и, увидев то, что видел прооперированный, закричал «э-э-э» и засвистел шлепанцами по коридору. «Сестра, сестра!!!» — услышал Вадим, теряя сознание и удивляясь, при чем здесь Маринка?
В атмосфере общего развлечения забыли зашить один довольно важный сосуд. Пришлось оперировать по второму разу. Теперь без наркоза, потому что не было времени, большая кровопотеря. Специальные ремешки, которыми больных пристегивают к столу, дабы не дергались, Вадим порвал с коротким щелчком. Тогда руки ему прикрутили бинтовыми жгутами. Было так больно, что ничего больше не запомнилось, кроме самого факта боли.
Через три дня он уже был дома.
И почти сразу понял, что не знает, как ему выйти на улицу. Достаточно было представить себе операционную и толпу медичек, давящихся хихиканьем, как его начинало мутить и валять по диванам, со своего на Маринкин и обратно. Он проторчал у себя в комнате целую неделю, под видом выздоравливающего. Отец подолгу сидел у его постели, стараясь по-своему развлечь. Рассказывал, что на Западе появилась совершенно сумасшедшая идея о «конце науки». Мол, надо признать, что современная наука исчерпала себя, сточила свои методы, как старые зубы, доцарапалась до самого дна и потолка мира и должна быть объявлена закончившейся. И в этом нет ничего удивительного, ведь считаем же мы закончившейся древнегреческую науку. Во всем этом ласковом отеческом бреде Вадима задевало только одно слово «конец». Он лежал с закрытыми глазами и мысленно составлял карту города, закрашивая черной краской районы, где ему никогда нельзя будет появиться. Весь север, например. Места свирепствования амазонок в белых одежках, их ухмылки колют больнее и глубже стрел. Танцплощадка — это вообще нечто вроде камеры пыток на свежем воздухе.
Собрав все моральные силы в кулак, стараясь не глядеть по сторонам, он заставил себя сходить за хлебом в продмаг, что был в сотне шагов от дома. Слава Богу, ему не грозила опасность встретиться с Бажиным или Тихоненкой, они учились в институтах далеко от Калинова, и таким образом старый сад вокруг дома поступил в полное угрюмое распоряжение Вадима. Он подолгу сидел на поваленном дереве, вдыхая гнилостный, волнующий аромат черемухи, мечтая о новой, окончательной повестке из военкомата и о странно обострившемся чувстве родства с сестрой. Он ведь чуть было и впрямь не присоединился к ней, и все по причине особого поведения своей крови. Если из Маринки она всю жизнь уходила по капельке, то из него рванула как из прорванной плотины. Они жили предельно разными жизнями, но финал мог оказаться по-родственному сходным.
Отца, видимо, пугало зрелище внезапного сыновнего затворничества. Он не обращал внимания на то, что Вадим почти совсем перестал посещать занятия в техникуме, и тот за это был отцу благодарен. Впрочем, что там диплом и так выпишут, а то, что младший Барков никогда не станет техником-технологом, было ясно уже давно. Отец не знал подлинной причины Вадимовой тоски и передумал на сей счет много всякого-разного, судя по попыткам «подъехать» к сыну. Началось, конечно, с классической «несчастной любви», а кончилось визитом невропатолога на дом. Вадима, конечно, задело то, что родной отец считает его ненормальным. Не хватало, чтобы ко всему тому, что о нем уже болтают в городе, начали болтать и это! Юноша сбежал через окно, не соображая даже, что этим бегством очень ухудшит мнение о состоянии своей психики. Он считал, что если ты не встретился с врачом по нервам, то, значит, и не можешь считаться нервным больным. Психбольницы в провинции боятся даже больше, чем суда, и лучше считаться вором, чем дураком. Это потом, от своих московских знакомых, он узнал, что отлежка в «психушке» — это не рваная рана на репутации, а нечто вроде той благородной плесени, что придает пикантность дорогому сыру.
Вечером того же дня отец нашел его на бревне в зарослях. Вадим был готов к любому скандалу, но отец сразил его сообщением, что невропатолог ничего не знает о факте его бегства. Ему сказано, что мальчика просто не оказалось дома. Тем самым, никакого визита как бы и не было.