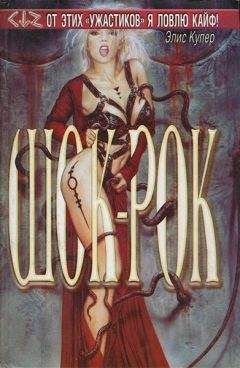Ощущение всемогущества вспыхнуло где-то внутри неё мгновенно, подобно искре. Она стёрла бегущего зверя, выровняла поверхность и тем же камнем, сама не зная как, несколькими линиями воссоздала улетевшую птицу. Невозможно было не узнать её: клюв, крылья, хвост… Лилит засмеялась. Уходящий Одам слышал её смех, но не обернулся.
Тогда из мягкого кома, ставшего вновь бесформенным, Лилит слепила человеческую фигурку. Задумавшись, стала намечать лицо, руки… Перед её мысленным взором стояла мать, едва дожившая до двадцати четырёх лет. Все люди Табунды умирали рано; они рождались выносливыми, но уж если заболевали, то напрасно родичи лили на открытую рану кипяток, заставляли больного сутками дышать дымом костра, поили настойкой муравьиной кислоты…
Мать Лилит ушла на ту сторону мира на рассвете, когда еле держалась на небосводе последняя звезда, названная за это Сердцем Дня. Тело привязали к бревну и пустили по течению лесной реки. Женщины, плача, кричали вслед похоронную песню:
В день нашей смерти
Приходит ветер,
Чтобы стереть
Следы наших ног,
так пели женщины.
Ведь если бы этого не было,
То казалось бы, что мы
Всё ещё живы.
Поэтому приходит ветер,
Чтобы стереть следы наших ног.
Узкое лицо матери с выдающимся подбородком и припухлыми губами — теми вытянутыми трубочкой губами, которые так напоминали у её дочери надкушенный плод! — это материнское, давно мёртвое лицо и её волосы, разделённые по темени на две волны, никогда не уходили из памяти Лилит. Впалые щёки, высокие скулы, летящий вперёд взгляд — странно, как много и как мало взяла от всего этого дочь!
Вечерами, вспоминая мать, Лилит смотрела на звёзды. Выросшая в лесу, она никак не могла привыкнуть к их обилию и следила их течение терпеливо, безмолвно, как погружают взгляд в струи воды.
Одама же небо оставляло равнодушным. Когда зажигалась первая звезда, это было лишь знаком, что скоро на охоту выйдут ночные звери, а день человека окончен. Дремота склеивала ему веки, он устраивался поудобнее и засыпал.
Лилит слушала поступь мягких лап, падение плода, крики сов.
— Оа, — тихо звала она.
Её молодой муж не шевелился. Среди многих звёзд одна, становящаяся с каждым вечером всё крупнее и ярче, словно кто-то подкидывал в неё хворост, смотрела ему в лицо. Он не обращал внимания.
Всё было смутно. Какая-то жажда палила изнутри, чувство, столь неоформившееся и странное, что в конце концов оно утомляло Лилит и она тоже засыпала.
— Какие сны повисли на твоих ресницах? — со смехом спрашивал Одам поутру.
Лилит знала, что он не верит ей и лишь подтрунивает, но не могла удержаться: её переполняло желание облечь в слова смутные грёзы.
— Одна из звёзд, самая большая на небе, вчера смотрела в твоё лицо, начала она и тотчас увидела, как гримаса неудовольствия скользнула по его губам: ему не нравилось, когда она впутывала его в свои выдумки. — Ты спал, а мне захотелось подняться повыше. Ведь небо плотно, как камень, если на нём такое множество костров! Звезда спустила свой луч, и я ухватилась за него, как за верёвку…
Одам невольно с опаской бросил взгляд на её тонкую руку, словно на ней до сих пор мог остаться след от серебряного лезвия звезды. Но тотчас рассердился и на себя, и на Лилит. Ведь он делил все вещи и явления на два ряда: те, которые он знал — и тогда уже знал их очень хорошо: съедобны они, враждебны, опасны, полезны ли, — и те, которые не знал, которые ему были не нужны и ничем не угрожали. О них он просто никогда не задумывался. Нет, он не намерен был слушать россказни Лилит, опасаясь хоть в чём-нибудь уступить ей внутренне. Тогда, он чувствовал, у него не останется опоры; его завертит, понесёт по течению каких-то иных мыслей и представлений, которых он не мог предвидеть, не понимал, а следовательно, чурался.
Утром он уходил на поиски камня для топора и наконечников. Камень нужен был «сырой» — не высушенный солнцем. Одам знал, что такие камни выкапывали из земли, но, пожалуй, можно отколоть и от пласта, подобрав острые осколки?
Лилит же весь день оставалась возле пещеры. Она сделала углубление для очага, а свод над ним обмазала глиной. Тут-то она впервые и заметила, что глину можно растягивать, придавая комку разную форму. Это было её собственное открытие; люди Табунды не лепили горшков, сосудами служили бычьи пузыри, скорлупа, выдолбленное дерево, сшитая кожа, мелкого плетения корзины. Понемногу у Лилит собрался полный набор домашней утвари. Одам подарил ей нож из пластины сланца — широкий, с просверлённым отверстием, чтоб она могла подвесить его к поясу.
Поблизости от своей пещеры она ставила силки на мелких животных, собирала жёлуди, которые толкла потом каменным пестом. Чтоб испечь лепёшки, она выкапывала круглую яму, на дне её раскаляла камни, покрывая их густым слоем листьев. Раскатанное тесто снова засыпала листьями и слоем земли, а наверху разжигала костёр. Наутро был готов хорошо пропечённый свежий хлеб, иногда с начинкой из ягод, рыбы или земляных червей, и они съедали его целиком.
Одам и Лилит впервые никому ничего не были должны. Они оказались вдруг свободны, свободны от всего, словно находились в пустыне.
У Одама это вызвало озабоченность. Инстинктивно он ещё оглядывался: если поблизости нет людей, то, может, найдётся хотя бы тотем — диковинный камень, дерево, неизвестный зверь, к которому можно прилепиться душой? А Лилит мечтала, что над ними загорится теперь новое солнце, иное, чем над людьми Табунды! Жарче или тусклее? Как они заслужат.
Нельзя слишком осуждать Одама за косность: он держался того, что знал. У него ещё не было примеров для сравнения; никакой опыт минувших веков не руководил им. Он цеплялся за крохи своего прежнего знания так же естественно, как естественно Лилит переступала старое.
Когда Одам возвращался, она опрометью бежала за свежей водой к реке — и вдруг начинала следить за стайкой голубых рыб. Входила за ними в воду, шла, шла, пока волна не касалась губ или Одам, тщетно дожидавшийся её у пещеры, не начинал звать её. Она смущённо выходила на берег, вода стекала с её волос, руки были пусты. Ведь она не охотилась на рыб, она просто смотрела на них.
Зимние и летние месяцы, как большие и малые волны, перекатывались, погасая. Ощущение времени, конечно, существовало у Одама и Лилит, но точный отсчёт его начался намного позднее, это было уже завоеванием мысли. А мысль идёт по ступенькам. Шаг за шагом. Как и человек.
Хотя язык племени Табунды был скуден, всё вокруг уже было названо людьми: небо называлось небом, а вода — водой. Разве только отвлечённости недоставало. Съедобные коренья, которые попадались Лилит изредка, не назывались ею, запоминалось лишь частное: кислица, сладень, горький лист. Множество хищников просыпались в лесу в час сумерек и с рёвом выходили за добычей. Но если они не угрожали человеку, то что в них?