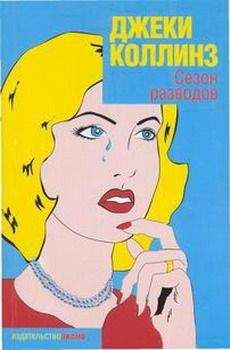— Дойлу собираются делать укол, — сообщила Сэм. — Так сказала Бобби. — Она посмотрела на мать. — Бобби знает папу.
— Да ну. Правда?
— Давай снимем это на ночь, — предложила Сэм, потрогав свои локоны Медузы.
— Нет-нет, моя милая, нет, родная, — сказала медсестра. — Это нужно оставить.
Сэм посмотрела на нее и откинулась на подушку со столь демонстративным смирением, что Роузи испугалась.
— Я тоже ложусь спать, — сказала она Сэм. — Я устала.
— Спи, — разрешила Сэм. — Ложись.
— Ладно.
Медсестра показала, где взять простыни и тоненькое одеяльце (не комната, а парилка, и ночью, верно, будет не лучше), помогла разложить кресло так, чтобы получилось некое подобие кровати. Соседка по комнате уже переоделась в хлопчатобумажную пижаму; Роузи так далеко не зашла — возможно, придется выдержать бессонную ночь, лучше уж оставаться одетой; соседка пожала плечами.
— Ну что, все? — спросила Роузи у Сэм. — Я готова.
— Ложись, — сказала та.
— Хорошо. Тебе больше ничего не нужно?
Сэм подумала.
— Спой, — сказала она.
— Ну, Сэм.
— Спой.
— А что спеть? Надо тихонько, чтобы малышку не разбудить.
— «Эйкен Драм».{289}
— Ты что, серьезно?
Сэм решительно кивнула. Эту песенку о чудовищном герое и его лунной битве она услышала от медсестер, Роузи ее не знала и никогда не пела. Ну что ж, тогда полушепотом:
— Его голова из… Из чего у него голова?
— Из пончика! — сказала Сэм.
Каждый раз что-нибудь новенькое. Роузи запела:
Его голова из пончика,
Его голова из пончика,
Его голова из пончика, и зовут его Эйкен Драм.
Юмор в том, чтобы собрать Эйкена из деталек по своему усмотрению, чем чуднее, тем лучше.
— А из чего сердце?
— Из пуговицы, — мигом откликнулась Сэм.
Сердце его из пуговицы,
Сердце его из пуговицы,
Сердце его из пуговицы, и зовут его Эйкен Драм.
— А руки его из спагетти, — подхватила Сэм. — А руки его из спагетти, а руки его из спагетти, и зовут его ЭЙКЕН ДРАМ!
— Тс-с, Сэм, тише.
Песня казалась неприятной и даже страшноватой: какое-то издевательство над несчастным Эйкеном и его неуклюжими протезами; Роузи просто чувствовала, каких усилий ему стоитне развалиться и дать бой. С ней такое бывало во сне, когда надвигалось что-то опасное или неотложное.
— Ну все, лапушка. Теперь закрывай глазки.
— И ты закрывай глазки.
— Закрываю. Я здесь, рядом.
— Хорошо.
— Хорошо. Я люблю тебя.
— И я люблю тебя, мамочка.
Она задернула последнюю занавеску, которой можно было заслониться от света, откинулась на жесткую спинку кресла. Только чур без снов, ну пожалуйста: не надо этих неспокойных, ярких видений, что являются в незнакомых местах на неудобных койках. Эйкен Драм. Что же в нем такого жуткого — точно в тех старинных портретах, на которых совершенно реалистичные лица отчетливо проступают из скопления птиц, овощей или кухонной утвари. Может, все дело в том, что у них ничего нет внутри, просто груда вещей, которая, однако, не может или не хочет пребыть в покое? Мертвое, но живое. Так и со скелетами: неодушевленные фрагменты, сухие полые кости вдруг встают и висят друг возле друга в воздухе, ни на чем, на пустоте.
Призраки, опять же. Хотя нет, наоборот, эти — одна душа, без тела. Нагие. Озябшие. Испуганные, может быть, больше нас: вроде диких животных, бродячих кошек с оскаленными клыками, ночных бабочек, стучащихся в стекло.
Она вспомнила Бони, который и прежде смерти почти превратился в скелет, но оставался жив, жив.
Где он теперь, так ли ему претит быть мертвым, как не хотелось умирать? Она вспомнила, как отец — племянник Бони — прятался от осознания того, что люди смертны, что его дочь может умереть.
Что же это такое со всеми Расмуссенами, отчего они так страшатся смерти; да и смерти ли боятся или чего-то еще? В последнее время Роузи стало казаться, что на мире лежит какое-то проклятье или заклятье — апатия, равнодушие к тому, что действительно важно, некое подобие сна, от которого не избавиться, и ей суждено нарушить его; не то чтобы она так думала, но несколько раз ловила себя на том, что чувствует именно так. Но может быть, проклятие лежит не на мире, а лишь на ее семье.
И на ней тоже: может быть, и на ней.
Проклятие рода Расмуссенов. Словно ступни у нас прилеплены задом наперед; думаем, что спасаемся от самого жуткого страха, а на деле-то бежим прямо к нему. Когда она подросла, ей стало казаться, что отец у нее какой-то не вполне реальный, что он говорит, ест, целует ее, желая спокойной ночи, уезжает в командировки, приезжает с подарками, но он где-то не здесь, в отличие от всех остальных. Мать смеялась, когда Роузи спрашивала у нее, чем же все-таки на самом деле занимается отец, потому что бизнес у него был не настоящим, он и не хотел заниматься настоящим, ему нужна была только видимость, призрак бизнеса. Настоящая жизнь его не имела отношения к действительности: демерол, перкоцет{290}, морфий — имя, означающее сон. Хотя, может, ему и повезло, он нашел-таки лекарство от страха.
А потом он умер, по-настоящему: от передоза — по маминым уверениям, случайного. Но мама ведь думала, что он принимал эту дрянь от беспрестанной боли в костях, с которой никакие врачи не могли справиться, вот он и искал облегчения в мире, который она, вслед за ним, называла Подпольем. Там он и купил однажды состав (где, как, в том тихом среднеамериканском городе, в те времена?), который, вероятно, оказался чуть сильнее прежних и завел его куда как дальше.
И теперь он знает все.
Так думала Роузи. Мертвые знают все, если хоть что-нибудь знают. Чего лишились, что могли иметь, живи они по-другому, и что теперь уже ничего не исправить.
Отец умер и стал ей сниться; она вела с ним долгие задушевные беседы, но как-то о том о сем; и он открыл ей наконец, что у него на душе. Во снах он порой клал ей голову на плечо или на колени, отказываясь от всякого притворства и защитной иронии, которыми прикрывался всю жизнь, становился ранимым, как несчастный влюбленный или усталый ребенок, и тут она просыпалась.
Только вот однажды. Однажды во сне она спросила его — парадокс на миг дошел до ее спящего сознания, — разве же он не умер, ведь она прекрасно знала, что умер, помнила, как он лежал мертвый в глянцево-бордовом деревянном ящике. Ах да, признался он, умер, и скоро ему возвращаться, да в общем-то, уже и пора. Если хочешь, предложил он, пойдем со мной.
Нет-нет, ей совсем не хотелось туда идти.