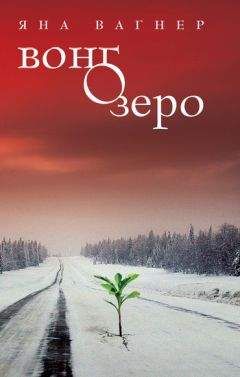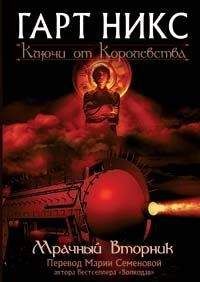— Я должен поблагодарить вас, — сказал он негромко, — судя по всему, вы спасли мне жизнь.
Не говоря ни слова, Сережа кивнул.
— Нет, послушайте, — сказал тогда доктор, — я действительно очень вам благодарен. Если бы не вы… — Его фраза повисла в воздухе так же, как предыдущая, и какое-то время он продолжал смотреть Сереже в затылок, настойчиво и тревожно; видно было, что ему отчаянно нужно услышать что-нибудь в ответ — что угодно, а я смотрела на него и мучительно пыталась подобрать какие-нибудь ободряющие слова, я хотела сказать что-то вроде «не волнуйтесь, уже все позади» или «главное, что вы живы», но потом я вспомнила Колю, неподвижно лежащего на снегу, его открытые глаза и нелепую сигарету за ухом, и не сказала ничего.
— Не понимаю, — заговорил он снова и, сморщившись, потер лоб рукой, — никак не могу понять, как же так вышло… мы были их последней надеждой, понимаете?.. им пришлось ждать три недели, и они… в общем, они думали, что мы уже не вернемся. Что никто не придет. А когда мы все-таки приехали, они… Представьте себе, — перебил он сам себя и, поскольку Сережа по-прежнему не реагировал, обернулся к Мишке и схватил его за плечо, — представьте себе, что вы ждете помощи. Долго, несколько недель. И все вокруг умирают. А вы ждете. И может быть, вы тоже уже больны, или болен кто-то из ваших близких, ваш ребенок, например. Или мама. Понимаете?
Мишка испуганно кивнул, и доктор сразу же перестал трясти его, убрал руки и снова как-то весь съежился, мрачно уставившись в пол.
— Это я виноват, — сказал он, помолчав, — я пытался им объяснить, но мне не хотелось сразу лишать их надежды, и я сказал — лекарство. Я надеялся, они выслушают меня, я объяснил бы им, что это не вакцина, что оно скорее всего не поможет совсем, во всяком случае заболевшим оно точно уже не поможет… я должен был сказать иначе, — проговорил он с отчаянием в голосе и ударил себя сжатым кулаком по колену, а затем снова поднял глаза — теперь он смотрел на меня. — Я должен был остаться, — сказал он, — они все теперь умрут. Они в любом случае умерли бы, конечно, но я знаю, как облегчить… а теперь это некому будет сделать. Я виноват.
— Они убили бы вас, — вдруг сказал Сережа, и голос у него звучал глухо и неприязненно, — они убили Колю и убили бы вас, а потом еще немного поубивали бы друг друга, и только потом уже прочитали бы инструкцию и поняли, что это ваше лекарство им не поможет.
— Да, Коля, — тихо сказал доктор и снова поднял руку — зажмурившись, он еще раз с силой потер лоб и какое-то время сидел молча, не отнимая руки от лица, а потом вдруг выпрямился и подался вперед, и заговорил — быстро, с напором: — Только, пожалуйста, не думайте о них плохо. Многих из них я знаю… знал лично, они обычные люди и ни за что бы так не поступили, если бы… просто почти все они были уже больны, понимаете?..
Надо как-то остановить его, подумала я, надо быстро остановить его, чтобы он ничего больше не говорил, потому что никому из нас — а особенно Сереже — эти оправдания не нужны, нам не нужно ничего этого знать — кем они были, эти люди, как их звали, потому что если он сейчас все это нам расскажет, мы не сможем больше думать, что Сережа выстрелил в бессмысленное, опасное животное, а не в человека. Не в человека. Вероятно, доктору эта мысль тоже пришла в голову — с опозданием, но пришла, потому что он вдруг сбился буквально на полуслове и замолчал, уставившись в окно, на белые замороженные деревья, медленно, словно верстовые столбы, проплывавшие мимо.
— А что главврач? — спросила я тогда, чтобы сказать хотя бы что-нибудь. — Ну, тот, который послал вас за вакциной? Он там был?
— Он умер, — просто сказал доктор, не поворачивая головы, — в самом начале, в конце первой же недели. Заразился и умер.
Через несколько минут после неслышных нам, скорее всего, переговоров по рации пикап притормозил, пропуская вперед Лендкрузер, до этих пор замыкавший колонну; поравнявшись с нами, большой черный автомобиль на минуту остановился, пассажирское окошко опустилось, и мы увидели бледный Маринин профиль и сразу за ним мрачную папину физиономию. Перегнувшись через неподвижно сидящую Марину, папа высунул в окно голову и сделал Сереже знак открыть окно.
— Рацию включи, — коротко сказал он, — Андрюха говорит, через десять километров еще одна деревня.
— Пап… — начал было Сережа, но тот перебил его:
— Просто включи рацию. Не время сейчас, потом поговорим.
Сережа кивнул в знак согласия и потянулся к рации, но тут из Лендкрузера раздался вдруг какой-то звук — посторонний и неожиданный, как если бы прямо в салоне вдруг завыла собака; подняв глаза, мы увидели, что Марина, оттолкнув папу плечом, лихорадочно возится с дверцей.
— Марин… ты чего, Марин, — сказал папа удивленно, но она уже распахнула дверь, легко выпрыгнула на снег и побежала через дорогу, к деревьям, смешно выбрасывая тонкие ноги в стороны, и остановилась у самой кромки леса, словно не решаясь пересечь ее; потом сделала несколько шагов обратно, к машине, и, в конце концов, остановилась и с размаху опустилась на корточки, вцепившись пальцами в волосы.
Вероятно, Паджеро оказался ближе всего к месту, где она сидела, — и потому я успела подойти к ней раньше, чем это сделали остальные; за спиной у меня еще только начали хлопать дверцы, а я уже была совсем рядом, и в этот момент странный звук — протяжный, низкий вой — вдруг раздался снова, и я со страхом поняла, что издает его она — не разжимая губ, и при этом дрожит крупно, всем телом. Я стояла над ней, не зная, что мне делать дальше, не решаясь заговорить с ней или тронуть ее за плечо, словно, почувствовав мое прикосновение, она может сделать что угодно — оттолкнуть меня, ударить или даже укусить. Внезапно она опустила руки и взглянула мне прямо в глаза.
— Я больше не могу, — произнесла она сквозь сжатые зубы, как мог бы говорить человек, окоченевший насмерть, настолько, что челюсти отказываются повиноваться ему, — не могу больше.
— Что случилось? — Рядом захрустели шаги — начали подходить остальные.
— Давай-ка, вставай, — хмуро приказал папа, — у нас нет времени на всю эту бабскую чушь, надо ехать.
— Нет! — Она яростно замотала головой. — Я не поеду. Не поеду!
— Что значит — не поеду, — папа сел возле нее на корточки и взял ее за плечо, — здесь, что ли, останешься? Ну хватит, давай, поднимайся, пошли в машину, нам еще триста километров пилить, и чем больше мы успеем проехать в темноте… — и тут она сбросила его руку.
— Мы не доедем, — произнесла она ясно и отчетливо, а потом поднялась на ноги, обняла себя руками за плечи и отступила на шаг, словно готовая сорваться с места и убежать далеко, в глубь застывшего черного леса, если кто-нибудь попытается еще раз прикоснуться к ней. — Мы ни за что не доедем, вы что, еще не поняли? Она никогда не закончится, эта ужасная дорога, мы все едем и едем, и эти люди, больные, злые, их все больше и больше, я не поеду!.. — И она топнула ногой, глупо, упрямо, бессмысленно, а я подумала, это похоже на некрасивый детский скандал в магазине игрушек, и какая-то часть меня уже была готова к тому, что она сейчас повалится на спину в своем щегольском белом комбинезоне и начнет колотить ногами по рыхлому снегу, пока мы, взрослые, будем стоять вокруг и смотреть, переполненные неловкостью и беспомощной злостью, но была еще и вторая, маленькая часть меня, которая исступленно, отчаянно завидовала ей, потому что после фразы «еще одна деревня через десять километров» мое сердце тоже ухнуло куда-то вниз, и точно так же, как ей, в этот момент мне больше всего на свете захотелось выбежать из машины и закричать «не хочу, не поеду», уже понимая, что ехать придется, что другого выхода нет, просто отдать, выплюнуть этот страх прямо в беззвездное черное небо, в равнодушные обледеневшие стволы деревьев, обступивших дорогу, распылить его, выкрикнув, разделить между всеми остальными, чтобы он больше не грыз меня, потому что до тех пор, пока мы не говорим о нем, пока делаем вид, что нам не страшно, он грызет каждого из нас в отдельности, и это действительно уже почти невозможно вынести.