— Мама твоя, Елена Андреевна, тоже очень хотела в большом городе жить, ей бы подошло, очень как подошло. Она, как птичка бедненькая в клетке за твоим отцом была, снаружи все чин чином, песенки пела, с рук водичку пила, а внутри — ой-й, что внутри. Ведь она, Соня, не любила отца твоего.
— Что вы, — робко возразила Соня, не зная, стоит ли слушать дальше.
Ведь отец ее предупреждал: не верь этой женщине, не верь. Но где он, отец, опять чужие люди пригрели ее, неустроенную и одинокую. Может быть, это он для мамы старался, вот ведь и город какой придумал. Да нет, здесь Ученик явно, папа не смог бы, он даже и простое электричество в доме не умел исправить…
— Не любил, а мучил, — еще тверже повторила хозяйка. — Доводил, бедняжку, дурачеством своим блаженным, она ведь на людях стыдилась его. Я же видела. И еще хуже ревновал, да не от сердца, не больной душой, а нудно как-то, с расчетом, все проверял, прикидывал, где да с кем, что та комиссия из торга, тьфу…
— Тетя Саша, ну откуда вы можете все это знать?
Соня могла со многим согласиться, но считать папу жестоким, расчетливым — нет, никогда, она своим умным сердцем чувствовала, что этого не может быть. Но тут вспомнила его искаженное гневом лицо и странную громкую реакцию на ее поход к постояльцу тети Саши.
— А пташка-то божья уже и дверку из клетки открыла, уже взмахнула крылом перламутровым, — тетя Саша продолжала, не представляя особых аргументов, и только покрепче сжимала сонину ладонь, — уже ножки упругие почти оторвала, и на тебе, выследил, накинул сеть, опутал цепями, а она, добрая душа, еще и переживала, как же я так могу обмануть такого хорошего человека. А чего обмануть? Разве ж дело в обмане, дело в любви, не может соколица с воробьем жить! И как же ей было не мучиться, если сокол ясный уже прилетел в зеленую дубраву, запел свои сладкие песни. Красивый, статный, денег куры не клюют, в столицу зовет, все добро свое предлагает, будь моей царицей — предлагает. Ах, какой мужик, какой мужик ладный, сизое перо. Бывало, придет, шампанское на стол поставит, фруктов диковинных, апельсин разложит, сядет, ждет, глаза горят как угли. Скорей, скорей, королева, приди. Он так и называл ее: моя королева, царица моей жизни…
— Не понимаю, — Соня не выдержала. — Да кто придет, куда?
— Ко мне, голубушка, ко мне, — продавщица впотьмах радовалась бывшему чужому счастью. — У меня они встречались, в той самой комнатке, где и вы с Евгением шуры-муры крутили. Да, да, был, наезжал, ручки целовал, — с особым удовольствием настаивала хозяйка. — И меня не забывал, всегда какую-нибудь дорогую вещь подарит, деньги даже предлагал, ну, как, мол, за койкоместо, а я отказывалась, потому что очень они любили друг дружку. Тетя Саша замолчала, и теперь Соня уже не могла отступиться от незнакомой информации.
— Дальше, дальше что было?
— Ишь, разгорелась душенька. Что же дальше, дальше стал он наезжать чаще. Приедет, зайдет с вокзала в магазин, я ему ключик заветный, и ей сигнал особый тут же посылаю…
— И она сама к нему приходила?
— Ну а чего ждать? Чай, не тыщу лет живем, нам всего одна любовь отведена, и то не каждой. — Тетя Саша вздохнула. — Придет, кулачки сожмет, а сама аж дрожит от радости, на меня не глядит, к нему, к нему быстрей, подышать свежим столичным воздухом. Вот тут истинная красота и раскрывается, будто алая розочка на кровяном соку, не идет, а летит соколицей. И где она его нашла, не знаю, видно, раньше еще в златоглавой встретились. Не знаю, не говорила.
Соня дрожала, как огонек в степи. Что же это, как же так? Ей стало жаль отца. Страшная это вещь — нелюбовь родителей, нелюбовь, от которой в детстве ее уберегли, а теперь вот решили вернуть. Но тут не только это, еще что-то, какая-то неприятная черточка, или нет, не черточка, запятая, как будто продолжение следует, подступает, дергает за платье костлявыми ручонками.
— Пять годков они украдкой встречались, пока Пригожин их не выследил. И зачем она его жалела? Не хотела, чтобы он узнал, не вынесет он, говорила. Как же, не вынесет, жил себе припеваючи, денежки зарабатывал космическими лекциями, а потом еще в конце концов нашу родненькую сторонку космическим аппаратом покорежил, супостат. Все хотел доказать, придурок…
— Не смейте, — Соня встала с постели и как будто начала собираться.
— Ну что ты, голубушка, не обижайся, кто ж тебе еще правду скажет? Да постой, куда пойдешь, ночь ведь, тьма кромешная.
— На вокзал пойду, светает уже.
— Постой, доскажу, нет уже его, чего теперь. Или, думаешь, обратно с неба спустится, обратно каменный город перевернется, и народится снова наша бедная, заморенная Застава? Садись, хоть посиди до электрички. Я уж тоже устала… Я ведь говорю, а сама и не верю уже, что все это было. Все как корова языком слизала, только государственный дом с музеем и остался. — Соня присела на стул. — Всем нам теперь одна дорога, в дурдом, потому как никому не скажешь, никто не поверит. — Хозяйка помолчала и опять принялась вспоминать. — Я его застукала в коридоре, стоит в темноте, скукожился и прислушивается, как они там, голубки, шепочут. Меня увидел, глаза белые, как сахарный песок, только вскрикнул и бежать, бежать. Я его светом напугала, слышь, думаю, кто это забрался ко мне в дом, воришка какой, что ли. Свет включила, а там сам наш учитель. Только вскрикнул точно баба, зажал рот рукой и бежать…
Соню буквально трясло.
— И мне его тоже жалко стало тогда, думаю, дурак ты, дурак, зачем соколицу с пути свернул. Соколица, она должна летать по воздуху, а не в пустом космосе, сейчас летать, а не в далеком времени. А потом я ей все рассказала, чтоб он, не дай бог, внезапно ее чем не огорошил. А она мне сказала: «Не жить больше мне. Пока он не знал, еще куда ни шло, ведь он любит меня, а я…». Кто любит, кого любит, все у нее перевернулось. Так знаешь, чего он сделал? А ничего, ничего, как будто и не был он у меня в коридорчике, ни слова не сказал ей, в глаза ей молча смотрел. И она-то сокола побоку, говорит мне, не любовь то была, а увлечение, страсть к тайне, так и сказала, теперь ничего не осталось. И то правда, стаяла Елена Андреевна быстро, за две недели. А может, и отравилась… — Хозяйка остановилась, чуть раздумывая, и все ж таки сказала: — А может быть, он ее и отравил?
Ну, это уже слишком, повторяла Соня, пробираясь по запутанным грязно-желтым лабиринтам. Мелькали глухие стены, колодцы, лестничные переплеты, черные замызганные окна. То здесь, то там попадались мусорные ящики цвета красной ржавчины, следы людского помета, сонные, еле раскрытые глаза дворников. Кое-как она вырвалась на простор. Наконец вывороченные внутренности города исчезли и она, не оглядываясь на строгие классические фасады, поспешила вдоль чугунной ограды, вдоль серого, припорошенного пылью, заснеженного русла Мойки, дальше, дальше от этих страшных несправедливых слов.
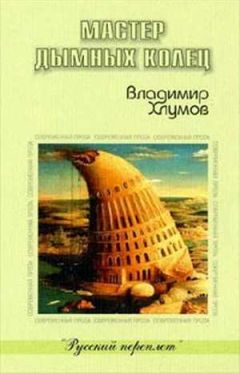


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
