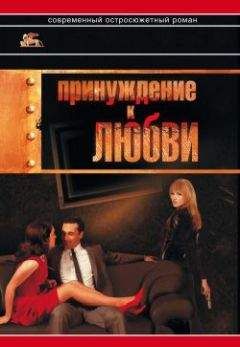- И часто ты себя такими мыслями мучаешь? - спросила она.
- Бывает, - вдруг смутился я.
Чего это меня, в самом деле, развезло? Но больше всего я боялся, что Анетта сейчас залепит что-нибудь такое, от чего между нами, как говаривали в старину, разверзнется пропасть непонимания.
- Эх ты, - ласково сказала она. - Давно бы пришел ко мне - я бы тебе все объяснила. Настоящая красота - это идеал. А идеал не должен быть живым и достижимым. Ему не место в нашей жизни. Поэтому одни при виде красоты впадают в грусть, предчувствуя все, что с нею сделают в этой жизни. Поэтому бог и не дает красавицам ничего, кроме красоты, а особенно ума и воображения, чтобы они не кончали жизнь самоубийством, глядя на себя в зеркало.
- А другие?
- Какие - другие?
- Ну, те, которые не впадают в грусть при виде красоты?
- А-а, эти… Эти бездушные скоты впадают в жестокое сладострастие и хотят только полапать недостижимый идеал своими грязными лапами. Поиметь они его хотят. Любой ценой. Вот такие дела, мальчуган.
- Так, значит, я прав, и нам с тобой повезло!
- Еще как! - хмыкнула Разумовская. - А то было бы у тебя со мной прямо по анекдоту - трахаю и плачу. Так что у нас, у тех, которые не красавицы, свои радости. И вообще тебе надо не Чехова, а Пушкина читать. «Нет на свете царицы краше польской девицы!» Заруби себе на носу. Это я тебе как польская девица говорю.
Тут она посмотрела на часы и помчалась за шубой. Уже облачившись в свои песцы, она подлетела ко мне с прощальным поцелуем.
- И куда ты улетаешь? - осведомился я.
- Ого, - прищурилась Разумовская. - Мальчуган вдруг заинтересовался моей служебной деятельностью! Это личное? Или задание получил?
- Личное. Глубоко личное.
- А вот и не скажу. Сам догадайся.
- Тоже мне загадка! Опять небось в ЦРУ за указаниями, как разрушать нашу бедную родину дальше…
- Чего ее разрушать? - хмыкнула Анетта. - Помнишь, мой маленький любитель классиков, у Щедрина мальчик без штанов говорит мальчику в штанах: «Чего нас жалеть, если мы сами себя не жалеем!» Вот так, мой милый мальчуган без штанов! - закатилась она и стащила с меня одеяло. Штанов на мне действительно ее усилиями давно уже не было. Пришлось прикрываться подушкой.
Разумовская окинула начальственным оком открывшуюся ей картину, пробормотала что-то вроде: «А годы проходят, все лучшие годы!..» - и полетела к двери.
Я встал и поплелся за ней, по-прежнему прикрываясь подушкой.
- Думай обо мне по утрам - и все будет хорошо, - шепнула она на прощание.
- Ага, испугалась!
- А ты как думал? Лучше выдумать не мог?
- Зато уважать себя заставил, - хмыкнул я.
- Зачем, дурачок, тебе уважение? Я же люблю тебя, а это гораздо лучше.
- Но я же русский человек. Мне, понимаешь, без уважения никак нельзя.
К этому времени Разумовская давно уже распахнула входную дверь, и если бы кто-то мог видеть нас со стороны, его взору бы открылась картинка, достойная пера: на лестничной площадке дама в роскошной шубе и совершенно голый мужик, прикрывающий одно место подушкой, несут какую-то ерунду и никак не могут расстаться.
Но тут загудел, заклацал железом лифт.
- Кончай трепаться, простудишься. - Разумовская затолкала меня в квартиру и сама закрыла дверь.
Она утомила меня так, что я заснул сразу, едва добравшись до постели, еще хранившей ее ароматы.
Часа через два позвонил отец и сообщил, что у него есть о чем поведать. Спросонья я даже не сразу сообразил, о чем это он. И лишь с трудом вспомнил - бегемотовские дела. Деваться было некуда. Пришлось одеваться и тащиться на мороз, который заворачивал все сильнее. К счастью, идти было недалеко. Ведь с некоторых пор мы с отцом жили в соседних домах.
[5]
- А теперь признавайся, - сказал отец. - Ты сам-то читал текст?
- Ну, - потупился я, вспомнив, как Разумовская с голой попкой скакала по моей квартире. Почитаешь тут!
Честно признался:
- Не успел. Замотался.
- Эх вы, шаромыжники, - вздохнул отец. - Поколение верхоглядов. Любители легкой наживы.
- Мы просто жизнелюбы, - миролюбиво сказал я.
- Ишь ты, жизнелюбы они! В жизнелюбы вы еще чином не вышли, молодой человек! До жизнелюба вам дослужиться надо. А пока вы просто бабник или пьяница.
- Я что-то не понял, что это за табель о рангах такая?
- А вот такая! При советской власти все ее знали. Мелкая сошка, Акакий Акакиевич какой-нибудь, инженеришка, если гулял - он назывался бабник или пьяница. Если в загул пускался человек в чинах, уже некоей властью облеченный, о нем говорили: морально неустойчив. То есть человек наш, но может и подвести, ибо если жене изменяет, то может и Родине изменить. А если гулял великий писатель или художник, или другой маститый чин, таких называли жизнелюбами. То есть, любит жизнь во всех ее проявлениях и может себе многое позволить. Что его не компрометирует. Говорит не о слабости натуры, а, наоборот, о широте, близости к людям…
- Ну, извини, - развел я руками. - Не по чину взял. Учту на будущее.
Отец иногда кажется глубоким стариком, хотя ему чуть за шестьдесят. Иные же его ровесники, несмотря на голые черепа и непрерывно урчащие животы, бегают по массажным салонам, фитнес-клубам, женятся на молоденьких, заводят себе детишек и вообще ведут себя так, будто собрались жить вечно.
Отец, наоборот, предпочитает несуетливую обстоятельность, ему по душе роль умудренного старца, у которого все позади, а нынешняя жизнь для него что-то вроде мыльной оперы, которую он поглядывает без всякого интереса. При этом никакой дряхлости и болезненной жалкости в нем нет. Воспоминаниями о бурных днях боевой молодости в стране победившего социализма он окружающих не мучает. У него худое моложавое лицо, короткая французская стрижка. Время от времени он отпускает пижонскую трехдневную щетину, которая ему очень идет. Иногда, когда его что-то забирает всерьез, он буквально преображается и превращается в энергичного, жесткого мужика, который кого надо возьмет за глотку, а кого надо - и за круглую попку. И тогда становится понятно, почему он сделал такую карьеру в прокуратуре и был в свое время одним из самых молодых заместителей Генерального прокурора.
Его блестящая карьера оборвалась ровно в шестьдесят лет. Отец легко мог стать сенатором, депутатом, советником в крупной компании, но почему-то предпочел стать свободным от всяких обязательств пенсионером.
В нашей семье до этого все было благополучно и безоблачно, но пришел некий срок, и семья ни с того ни сего слиняла. Слиняла не в три дня, как Русь в семнадцатом году, процесс длился несколько дольше, но от нее тоже осталось лишь нечто, что ничуть не напоминало столь недавнее славное прошлое…