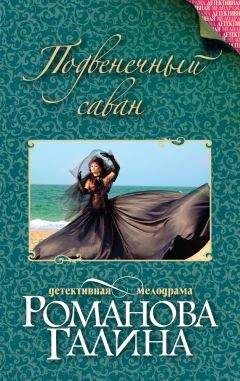Как раз вовремя. Лес расступился, железные дороги с поездами-призраками исчезли, замков и скитов с торчками-идолами стало гуще, и вновь образовался город.
На окраине которого я и высадился.
Город был само запустение. В общем-то нормальный, современный даже город, а не какой-то Город Будущего, но выглядел он так, словно только что в нем произошли боевые действия. Причем дрались две армии средних размеров с применение всех видов боевой техники, включая танки и тяжелую артиллерию. Впрочем, разрушения могли быть последствиями не войны, а какого-нибудь особенного мора. Или просто разрухи как таковой. Но то, что город умирал, сомнения не вызывало. Почти все дома выглядели либо руинами либо же были приведены в негодность каким-либо иным способом.
От предыдущих идиллических картин, виденных мною с воздуха, от всех этих виадуков и зданий из одного стекла без бетона, устремленных в выси, не осталось и следа. Попадались кое-где остатки раздолбанных самодвижущихся тротуаров и фрагменты футуристических архитектурных фантазий, однако они уже мало чем отличались от окружающего пейзажа.
Странно, но с ними исчезло и ощущение, что я находится у себя дома ― до этого мне казалось, что почти все, что видел, было если не знакомым, почему-то неощутимо близким, своим, что ли.
Теперь это чувство пропало напрочь. Все вокруг было хоть и похожим на обыденность и возможным, но посторонним, чуждым, отстраненным и холодным. И потому не пугало, а просто вызывало чувство любопытства, как когда смотришь пожар или войну по телевизору. И такое же брезгливое отвращение.
Остатки населения походили на изголодавшихся беженцев, зато тут и там мелькали тяжеловооруженные личности весьма мрачного и решительного вида.
И были они какими-то плоскими.
Те люди, что попадались мне, оборванцы или вооруженные качки вроде бы разговаривали по-русски, и выражались до боли знакомо, и лица у них были обыкновенными ― только вот вели они себя до смешного неестественно. Как если бы то были и не люди вовсе, а статисты, массовка из плохого кино. Или ходячие символы чего-то знакомого. Они все старались быть на кого-то похожими, но это у них не совсем получалось. И они сами, понимая и чувствуя это, старались еще и еще больше, и походили все меньше и меньше, потому что роли им порученные были явно не свойственны. В глаза бросалась какая-то нервозность их поведения. То, что они делали, как делали и к чему их действия приводили ― все, при внешней эффектности и красивости производило впечатление ходульности и натужности, неумело скрываемой за кажущейся привлекательностью.
На многих лицах были видны отчетливые плохо отмытые, нестираемые следы каких-то затертых штампов, которые сами их носители и окружающие старались не замечать, деликатно отводили глаза. Большинство неразборчивых надписей на них, как на поддельных печатях, были неразборчивы и, кажется, сделаны по-английски.
Некоторые, особенно какие-то плоские и полупрозрачные, несли на себе отчетливые следы перфорации, как на старой киноленте. Те немногие, что в этом смысле были чисты и выглядели более похожими на людей хотя бы тем, что не так активно участвовали во всеобщем мордобитии и разрушительстве, производили столь убогое впечатление, что кроме жалости и не вызывали никаких чувств. Им было явно тяжко, они были здесь лишними, не у дел и смотреть на них было неудобно. Так что, когда их убивали проштемпелеванные и перфорированные, а убивали таких в первую очередь, то ничего, кроме сострадательного облегчения, испытывать к погибающим было невозможно: вот, мол, и ладно, вот и отмучился, бедолага. Они были чужими на этом пиршестве во время чумы.
Как, впрочем, чужими здесь были и устроители разрухи, действующие под каким-то внешним, часто непонятным им самим побуждениям. Словно кто-то дергал за веревочки, приводящие в движение кулаки, ноги, пальцы, жмущие на курки тех жутких орудий, которые в изобилии несли на себе штампованно-перфорирование. А когда изредка они начинали вдруг говорить, если не выражали свои чувства посредством звуков и жестов, становилось просто жутко, настолько неестественно звучали изрекаемые ими банальные фразы и патетические речи о Добре и Зле с надерганными с мясом цитатами из классиков с обязательным упоминанием «так сказал (писал, учил) Леонид Андреев (Блаватская, Рерих, Заратустра и т. п.)…». Тексты эти были им необходимы, видимо, как оправдание своим действиям. Вернее, действиям, которые они совершали по чьей-то воле. А уж признания в любви казались настолько банально однотипными, что скулы сводило и становилось противно. Тем более, что они обычно заканчивались моментальным воплощением этой самой любви тут же, не отходя от места. И этот переход от слов к делу был просто диким. На его фоне сцены неприкрытого насилия казались простыми и незатейливыми ― там хотя бы инстинкты не прикрывались красивыми банальностями. И я от всего этого старался отворачиваться, зная, что ребенок где-то там, в лаборатории Седлового, это видит, хотя и помнил, что ребенку уж давно исполнилось шестнадцать и на голубом (да и белом) экране он видал и не такое.
Вообще складывалось впечатление, что все эти здоровенные дяди, у которых нет ничего, кроме бицепсов, замерли в умственном развитии где-то на уровне подростков в период полового созревания, да так там и остались, нарастив мускулы и не затруднив себя выведением в мозгах хоть одной лишней извилины. Похоже, что в их черепных коробках кости было куда больше, чем серого и белого вещества., что вполне подтверждалось тем, что от наносимых им в промежутках между любовью и стрельбой ударов по головам никакого видимого вреда для их здоровья не наблюдалось. Они совершенно не ощущали каких-либо неудобств и последствий, тогда как любой нормальный индивидуум — носитель разума в такой ситуации получил бы как минимум сотрясение мозга.
Впрочем, это была просто «специфика жанра».
Так объяснили мне двое ― метеляший и метелемый, ― когда я, не выдержав, попробовал вмешаться, чтобы урезонить особо рьяно дерущихся. «Иди, мужик, не мешай работать, ― отмахнулся от увещеваний метелемый, весь в кровавых соплях и ошметках, пуская красные пузыри. ― Чего ты в чужой сюжет лезешь?» А метелящий поддакнул с гнусной ухмылкой: «Может, ему со своим не повезло» ― и, с криком «ки-я» взмыл в воздух, возобновляя труды свои праведные. Прежде чем пятка его уперлась в лоб жертвы, та успела произнести сочувственно: «Значит, автор ему попался нераскрученный», и его голова с сухим бильярдным треском врезалась в стену. Я отвернулся и пошел дальше, оставив собеседников продолжать свой предметно-сюжетные разговоры ногами.