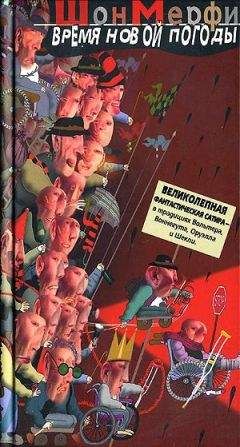Бадди шагал между раскрашенными фургонами, сначала с опаской, потом более уверенно, поняв, что люди здесь с готовностью принимают его присутствие. А может быть, они просто были заняты делом своей жизни – репетировали, устанавливали шесты для шатров, выравнивали фургоны, кормили животных, убирали за ними.
Бадди надолго задержался перед клеткой тигра, разглядывая его широкие оранжевые бока, исчерченные черными полосами, словно под этой до блеска вычищенной шкурой, за этими черными полосами-прутьями была, точно в клетку, посажена некая жизненная энергия, грозная стихия опасности, готовая вырваться наружу при первой же возможности.
«В клетке внутри клетки», – думал Бадди, вглядываясь в тигриные глаза. Желтые, с вертикальными щелками-зрачками, до краев наполненные жизненной силой, они так же пристально, как он сам, глядели ему в лицо, каждый глаз – размером с его ладонь.
Собиралась гроза; в последние две недели эти грозы грохотали в Байю каждый день, ближе к вечеру, будто каждый раз это была та же самая гроза, на время отступающая в какую-то параллельную вселенную, чтобы возвращаться снова и снова. Вдруг ниоткуда, посреди ясного неба с плывущей по нему горсткой пушистых, безобидных, словно комочки белой ваты, облаков, возникли давящие черные паруса тьмы. Небо меняло цвет – голубизна детских глаз за несколько минут сменилась иссиня-черным, а затем – абсолютной чернотой. Загромыхал гром, задрожала земля, стрелы молний бело-голубыми зубчатыми вспышками целились в землю, и крупные, тяжелые, словно пули, капли дождя полетели с небес. Слоны затрубили и стали подниматься на дыбы у своих привязей, когда внезапные водяные потоки заструились по их серым бокам; и даже огромные кошки забились в затененную глубину своих клеток, шипя и огрызаясь при взрывах грома и вспышках молний. Запахло прибиваемой дождем пылью, этот острый, отчетливый запах быстро растаял в пронизывающей сырости. В мгновение ока циркачи исчезли, словно никогда не существовали, и Бадди обнаружил, что стоит в лагере один посреди моря наплывающей грязи, что дождь струится по его лицу и плечам, а он понятия не имеет, куда податься.
Вдруг медленно, со скрипом отворилась дверь ближайшего к нему фургона, и из его нутра высунулась рука с татуировкой всех цветов спектра. Длинный искривленный палец поманил Бадди войти.
Не зная, что же еще он мог бы сделать, Бадди бросился в укрытие и очутился внутри фургона, который даже сами циркачи считали самым причудливым из всех, – фургона Татуированной Присциллы-Предсказательницы. В полутьме повсюду были размещены хрустальные шары, шары висели на стенах вперемежку со светящимися камнями. Кожаные мешочки с талисманами, украшенные бусами и кусочками костей, свисали с потолка; полки были уставлены бутылками с настоями трав и банками с мазями; страусовые и орлиные перья торчали из щелей; чучело горностая выпуклыми стеклянными глазами пристально вглядывалось в казавшиеся бездонными тени внутреннего помещения фургона. Горели свечи; Бадди вдыхал запахи ладана, масла и керосина; и в грозовой тьме, под грохот дождевых капель по крыше, в пляшущих тенях, отбрасываемых горящими свечами, татуировка Присциллы, казалось, зажила собственной жизнью – рисунки на ее коже зашевелились и начали перемещаться прямо у него на глазах.
– Так ты хочешь узнать будущее? – Предсказательница говорила из глубокой тени, ее фигура казалась огромной и тучной в тесном пространстве фургона; в голосе ее Бадди уловил, как ему представлялось, отзвуки какого-то экзотического восточноевропейского акцента.
– Я… – пробормотал Бадди, – я просто пришел укрыться от дождя.
– Никто и никогда не приходит в этот фургон случайно, – проговорила предсказательница, а бесчисленные татуировки все ползали по ее коже.
– Но я… – начал Бадди.
– Неужели ты подумал, – спросила Присцилла, – что очутился как раз у моего фургона, когда началась эта гроза, совершенно случайно? – Она громко рассмеялась, и даже в ее смехе, казалось, звучали слабые отголоски того незнакомого акцента. – Разве ты ничего не знаешь о том, как действует судьба? – Она пристально смотрела на него, а он – на нее, чувствуя, что в ее фургоне, должно быть, заключено все знание о жизни, что все прошлое и все будущее записаны в движущихся фигурках на ее коже.
– Мне кажется, – произнес Бадди после долгой паузы, собрав всю свою храбрость в кулак, – я и правда хочу знать, что со мной случится. Кто я такой? Что я сделаю в жизни?
Присцилла принялась изучать хрустальный шар; свет свечей плясал на ее татуированных руках, на ладонях.
– У тебя есть предназначение, – сказала она ему наконец. – Не у всякого есть предназначение.
Бадди молчал.
– У тебя есть отец, – продолжала Присцилла. – Отец, которого ты не знаешь. Это так?
Бадди кивнул, онемев.
– Твое предназначение – найти отца в подземном мире и вернуть его в жизнь.
– Что? Что… сделать? – спросил Бадди, который, сколько бы ни представлял себе свое предназначение, никогда даже подумать о таком не мог. – Не могли бы вы это повторить? Пожалуйста!
– Ты найдешь своего отца в подземном мире, – терпеливо повторила Присцилла, – и приведешь его обратно в жизнь.
– Подземный мир?… Мой отец?… Но как? – спрашивал Бадди. – Я ведь его даже не знаю! А дальше что?
Присцилла, не отрываясь, глядела в хрустальный шар.
– Дальше? Кто может сказать? – Она пожала плечами. – Все остальное – в руках судьбы.
В тот самый момент, когда Президент Спад Томпсон проводил свою злосчастную встречу с Рэнсомом Стоунфеллоу-вторым, мать Бадди, Полли ЛеБланк, суетилась по хозяйству в «Новой американской харчевне Полли»; она недавно приобрела ее у бывших владельцев – Хипа и Хапа, у которых до этого несколько десятков лет проработала официанткой. Она время от времени посматривала на телевизор над стойкой, следя за тем, что происходит на экране: телевизор, в порядке исключения, был настроен на программу, показывавшую Столицу. Обычно Полли включала коммерческий канал – в угоду постоянным посетителям, предпочитавшим не отвлекаться на программы, вторгавшиеся в нескончаемый поток рекламы и каждые несколько минут его прерывавшие. Но ей почему-то казалось, что именно в этот день происходили события необычайной важности.
В харчевне находилась и кучка других посетителей. Прежде всего Корсика – поэт и постоянный обитатель заведения, ему было теперь далеко за девяносто, но он так великолепно сохранился благодаря мятному ликеру, который он регулярно, в течение всей жизни, принимал ежедневно, что Полли полагала – когда неминуемый конец все же наступит, в салоне ритуальных услуг незачем будет беспокоиться о бальзамировании. Тут были также Хип и Хап, они никак не могли привыкнуть, что им уже не обязательно присутствовать здесь. Оба сидели у стойки в одинаковых майках без рукавов, блистая одинаковыми лысинами и прихлебывая кофе. Оба энергично жевали резинку – эту привычку они завели себе, когда пытались бросить курить.