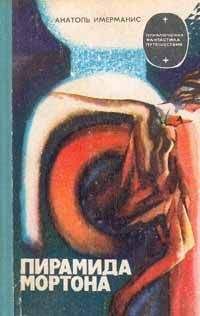Я отрезал себе кусок мяса и, старательно прожевывая его, запил водой.
— Да, пирамиды вам не миновать, — процедил я сквозь зубы. — Вы необыкновенный человек. Прийти как раз в ту минуту, когда созревший плод падает вам прямо в руки.
— Какой же вы все же простак, Трид! — улыбнулся Лайонелл. — Ведь это вы сами информировали меня о смене настроения. У вас в последнее время, как у многих одиноких, появилась привычка разговаривать с самим собой. Ну, а кедровые шишки, если снабдить их соответствующей аппаратурой, тоже имеют уши.
Я бросил недожеванную оленину в догорающий костер. Вся эта комедия встала у меня поперек горла. Однообразное меню, основанное на благородном принципе кормиться трудом своих рук, казалось мне сейчас таким же анекдотом, как моя увешанная микрофонами отшельническая обитель.
Лайонелл выхватил из костра горящую головешку, поднес ее к хижине и, подождав, пока она загорелась, повернулся:
— Поужинаем в Сиэтле!
Мы шли, словно по узкому ходу, освещенному с обеих сторон желтоватыми фонариками — настороженными глазами хищников. Потом фонарики побежали от нас в противоположную сторону и нырнули в полуосвещенную догорающим костром темноту. Залязгали зубы, заклокотали в смертельной ненависти к сопернику набитые мясом глотки, запахло паленой шерстью. Из хижины вырвался фейерверк — это лучшие умы человечества — от Сократа до Сартра — вносили в пламя свою посильную лепту. И мы увидели хищников, прыгавших прямо в огонь, чтобы урвать кусок побольше.
Когда мы отошли примерно на милю, Лайонелл засвистел. Что-то наподобие птичьего щебета с руладой и кадансом. Никто ему не откликнулся, но я инстинктивно почувствовал, что мы не одни.
— Выходит, меня не только подслушивали, но и охраняли, — сказал я минут через десять, когда удалось наполовину преодолеть унизительное чувство ребенка, которому взрослые разрешают, сидя верхом на опрокинутом стуле, разыгрывать из себя локомотив.
— А как же, — Лайонелл шагал мерным, легким, почти бесшумным шагом. — Вы могли забыть о существовании Болдуина Мортона, но господин Эрквуд ничего не забывает.
— Но кто же? Где вы нашли таких великолепных исполнителей? Я ни разу не слышал ни малейшего треска или хруста, не заметил ни одного следа.
— Индейцы. Хотя они и загнаны в резервации, хотя и вяжут столь ценимые снобами галстуки и устраивают балаганы в обмен на подачки туристов, некоторые из них, не в пример нам, еще не разучились жить в единении с природой.
Мы вышли на освещенную мощными вертолетными прожекторами лесную прогалину. Вертолет был наполовину красным, наполовину черным, с огромными буквами на борту: “Телемортон Соединенные Штаты. 531”. Я уже собирался подняться по трапу, когда увидел их. Они стояли на опушке леса, почти сливаясь с ним — двадцать одетых в маскировочные комбинезоны неподвижных фигур. У каждого за плечом висел сверхсовременный автомат, лук и колчан со стрелами. Это было так несуразно, что я даже не рассмеялся. Как в плохом фильме, где древние римляне, погоняя впряженную в боевую колесницу квадригу, освежаются жевательной резинкой.
— А лук зачем? — спросил я наконец, и в ту же секунду сам догадался. Все это время они питались таким же способом, как я, выстрелы выдали бы мне истину.
Я полез первым. Лайонелл, чуть помедлив, небрежно помахал им рукой, и тут я увидел уже нечто совершенно диковинное. Индейцы согнули туловища в каком-то чудовищном по синхронности глубоком поклоне. По фильмам (половина образования современного человека зиждется на кино) я знал, что такого приветствия удостаивался в былые времена верховный вождь племени.
Но какое отношение это имело ко мне, Триденту Мортону?
Мы взмыли вертикально вверх, и почти в то же мгновение вокруг нас засвистели пули — будто огромная стая перелетных птиц.
— Не пугайтесь, Трид, — усмехнулся Лайонелл. — Это только салют.
Стоя под душем, я сквозь приоткрытую дверь ванной смотрел, как она натягивает чулки. Волосы огненным водопадом низвергались на бедра того нежно-молочного цвета, каким обладает большинство рыжих. Прозрачночерный чулок медленно дополз до красных волос, образуя вместе с белым телом ослепительное трехцветие, от которого зрители придут сегодня в восторг. Тора Валеско была нашей главной звездою, и, возможно, именно это обстоятельство окончательно утвердило меня в своем решении.
Был момент — в шумном ресторане Сиэтлского аэровокзала, когда я чуть не сбежал. Сама идея насыщать передачи сценами насилия привлекала меня. Уже давно, особенно после Вьетнама, я понял, что этот безумный мир, если и исцелим, то только лошадиной дозой собственного безумия. Мне казалось, люди, впуская при помощи Телемортона в свой дом ужасы, притаившиеся доселе на улицах, в других городах, за чужими морями, поймут в конце концов весь ужас этой самоубийственной эпохи. Но в ресторане я увидел молодого человека, методически избивавшего свою спутницу под одобрительные усмешки посетителей, и я подумал, что время для наглядных уроков, пожалуй, давно пропущено. Пропущено в тот украшенный победными флагами год, когда первая мировая война торжественно провозглашалась последней.
И тогда Лайонелл сперва послал молодого человека под стол небрежным, словно выполненным кончиками пальцев, апперкотом, а потом вытащил из кармана фотографию Торы: Поза была почти такая же, как сейчас, снимок стереоскопический, и, погружаясь в поначалу хладнокровное созерцание великолепного тела, я внезапно задохнулся под захлестнувшей меня заново красной волной.
— Может быть, это к лучшему, что Мефистофель сыграл со мной тогда свой любимый фокус, — пробормотал я, обтираясь жестким, словно наэлектризованным полотенцем.
— Ты что-то сказал мне? — спросила Тора. Она была полуодета, такое впечатление сложилось бы у постороннего наблюдателя. Но именно в этой короткой черной тунике, пронизанной электрическими нитями, которые при повороте браслета на руке Торы вспыхивали багровым пожаром, она должна была сегодня предстать перед телезрителями.
— Ах так, все еще не отбросил свою скверную привычку разговаривать с самим собой. — У нее был особый смех, он сначала звонко выстреливал в потолок, а потом, медленно переливаясь, спускался на парашюте. — Но ведь сейчас ты больше не одинок.
Она подошла ко мне и всем телом втиснулась в мое, еще полумокрое. Каждую металлическую нить я чувствовал так, словно она вросла в мою собственную кожу.
И мне сразу вспомнилась встреча — не первая, та, что в отеле “Уолдорф-Астория”, а вторая. Я как раз расстался с францисканским орденом, и хотя по части плотских радостей и там себе ни в чем не отказывали, изощренный вкус монахов исключал из этого правила женщин.