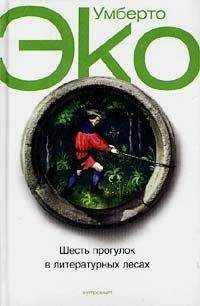с томиком «Капитала». Влюбленный Ильич — это фантастика! Она дарит ему поцелуй и с тех пор (о, счастье!) принимает решение быть с ним.
Пока пассажиры восхищаются искрометным романом, корабль входит в воды Атлантического океана. Но кого это волнует? Влюбленные шарахаются по чужим каютам. И, наконец, кульминация: Ильич рисует угольком ее обнаженный портрет. На прекрасной шее ожерелье — дар предков. Работа готова. Девушка поражена: вместо бесстыдного образа на бумаге манифест коммунистической партии. Пожалуй, она счастлива. А что же с ожерельем?
— Милая, его надо отдать на благо мировой революции, — мягко укоряет любимую Ленин и прячет драгоценность в карман.
Теперь как и положено: они оказываются на носу корабля. Он нежно обнимает ее за талию и шепчет на ухо глубокомысленный бред. Океан отдает красным. Из рупоров корабля доносится чарующе надрывная музыка.
В такие моменты появляется острая необходимость предаться любви. Впервые за долгое время их оставили одних. За влюбленными никто не следит. За исключением разве что Троцкого и Бухарина, что которые стоят за спиной. Но так положено: кто-то должен блюсти приличия! В обстановке нарастающей неловкости она слышит свое имя:
— Елизавета Ивановна!
И опять:
— Елизавета Ивановна.
Она открыла глаза. Из-за двери доносилось бормотание. Заспанное сознание баянистки ошарашено знакомым именем.
Женщина не спешит подниматься после опустошительного сна: руки, ноги онемели от романтики.
— Сейчааас, — прошептала она сухими губами и сползла с дивана.
Елизавета Ивановна ползет по холодному дощатому полу с одеялом в зубах. Осталось только впустить гостя.
— Пожалуйста, не надо…
Женщина села на пол, опершись спиной о дверь.
— Елизавета Ивановна, я вас давеча узнал.
— Где?
— В гаражах, когда меня били.
— Ах, это Вы! Больно было?
— Да, я уже привык.
От этих слов потеплело на душе: впервые за долгое время кто-то разговаривал с ней откровенно. Баянистка прониклась безграничной симпатией к паршивому интеллигенту.
Она так долго этого ждала и теперь могла ничего не отвечать, а просто слушать этот наивный голос, который (как и полагается) сомневался в справедливости мироустройства.
— А вы помните, как оказались тут?
— Нет.
— И я нет…
По тону голоса, неспешной речи не оставалось сомнений, что когда-то давно они встречались: гуляли, танцевали, читали какого-то бунина.
— Меня терзает крамольная мысль, Елизавета Ивановна. Мне кажется, что амнистия нас не спасет.
— Почему?
— Такое уже было. Мы заселяем рай, оскверняем его. Он становится адом, а мы двигаемся дальше. Ты меняешь прописку, но преисподняя следует по пятам, ведь она — внутри. Гражданам в гаражах я пытался это объяснить, но они меня не поняли.
— А я вот, — начала собеседница невпопад, — никак не могу собраться. Не хочу ехать. Нам дают шанс, возлагают надежды, а я слишком стара, чтобы оправдывать ожидания…
Понемногу, слово за слово их беседа увязает в тишине.
— Я, пожалуй, останусь, — после некоторой паузы заявил мужчина.
— Вы правы, ад без соседей — неплохое место, — она сильнее закуталась в одеяло.
В наступившем молчании прозвучало интимно:
— Дайте сигаретку.
Под дверью прошуршала мягкая палочка. Иванна затянулась. Умеренная доля саморазрушения — это так приятно.
На улице стояла тишина. Из всех чудовищных звуков этот самый страшный, что слышала Елизавета Ивановна. Ад замер в ожидании.
Девственные интеллигенты курили. Завтра их ждал рай.
КАЧЕЛИ
Беспощадный свет бил по векам. Она поспала бы еще, но ощутила невнятный порыв, мешающий вернуться в сон.
— О, боже!
Да, именно так Елизавета Ивановна начала этот день.
За тревогой накатило отчаяние. Двенадцать мучительных месяцев она ждала, что амнистию отменят или перенесут. В надежде женщина бросилась к окну: нечестивцы исчезли; по улице брели смиренные люди в белой одежде, прижимая к груди молитвенники и табуретки.
В порыве отчаяния у Елизаветы Ивановны возникает желание вернуться в постель и спрятаться под одеялом. Однако она сама знала, что это вздор: баянистки не любят полумер.
Посторонний голос мог бы внести ясность. Разваливая вокруг себя подушки и одеяла, баянистка бросилась к радио: Дьяволята Бим и Бом исчезли навек, оставив вместо себя шипение радиоточки, в котором чуткое ухо женщины расслышало «Шшш…подстава».
— Надо идти! — грозно буркнула хозяйка и направилась к умывальнику.
Зеркало никогда не было для нее союзником. Вот и сейчас оно сообщало о том, что этой нелепой женщине с зубной щеткой во рту не место на небесах. Ледяная вода приводит мысли в порядок. До сознания долетают тысячи запоздалых идей: нужно подкраситься, почистить одежду, найти паспорт.
«А где мой чемодан?» — подкошенная этим вопросом Елизавета Ивановна окончательно растерялась. В бессмысленной попытке собрать хоть что-то она запихивает тюбик с пастой в карман пальто: «Не помешает». Глупый поступок, но кто осудит человека, меняющего прописку?
Покидая ленинскую комнату, она еле сдержалась, чтобы не выкинуть какой-нибудь фокус: плюнуть, позвонить, поесть, учинить разгром, устроить пожар. Но это пустое: можно сколько угодно прятаться и ругать судьбу, но главное сейчас — вырваться из комнаты. Задержись она хоть на секунду — не сможет уйти никогда.
Женщина бежала по коридорам ДК, мысленно прощаясь с треклятыми кружками и ансамблями самодеятельности. Ну, вот и дверь, слава богу!
Не успев глотнуть свежего воздуха, Елизавета Ивановна наткнулась на незнакомца и свалилась со ступенек. Сидя на земле и потирая ушибленный бок, она услышала:
— Я так Вас ждал!
Директор помог подняться:
— Вы отправляетесь в рай. Хотел бы Вас поздравить, но, если честно, я опечален. Ведь вы поддерживали меня все это время.
— Поддерживала? — удивилась Елизавета Ивановна, поправляя папаху.
— Все разбежались. Было так грустно. Если бы не Вы, я бы даже… уволился.
Елизавета Ивановна ошеломленно слушала тираду и вдруг подумала о том, что никогда не смотрела директору в глаза. Но сегодня в его затуманенном взгляде она смогла прочесть: «За меня ведь все решили. Кого-то слепили для ангельской работы, а кого-то для бесовской. Нас собирают в одном цеху, только места службы разные. Неужели быть бесом грешно?».
Печально было расставаться, но протокол превыше всего. Немного помявшись, директор достал из дипломата картонку: «Грамота за необъяснимое чувство гордости» — написано детским почерком.
— Спасибо, — прошептала Елизавета Ивановна.
Вместо ответа черт невпопад произнес:
— Разве ад может оставаться пустым?
Елизавета Ивановна пожала плечами. Обнять робкого черта помешал баян.
— Пожалуй, он больше не нужен… — заметил директор.
— Действительно, — согласилась счастливица. Разгуливая по улицам ада, она держала баян перед собой, словно щит, но на новом месте жительства он вряд ли пригодится.
Спускаясь во двор, она кладет его на качели.
— Прощайте, — сказала бывшая музработница то ли бесу, то ли баяну и юркнула за ворота. Во дворе послышался жалобный писк.
Улица встретила насторожено. Сгущался


![Шесть Иванов — шесть капитанов[сборник] - Анатолий Васильевич Митяев](https://cdn.my-library.info/books/326800/326800.jpg)