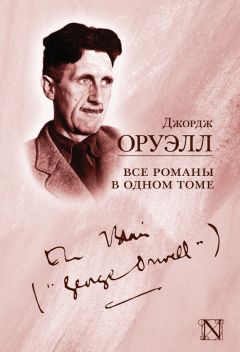Конечно, Дороти досталась своя, даже с избытком, доля развязных ухаживаний. Она была в самую меру и миленькой и некрасивой – такой, каких по большей части выбирают скучающие кавалеры. Когда мужчина хочет поразвлечься, обычно он предпочитает девушку не особенно хорошенькую (красотки, полагает он, чересчур избалованны, а потому капризны). Традиционный объект охоты – славные дурнушки. И пусть ты даже дочь священника, пусть живешь в таком месте, как Найп-Хилл, и вечно занята приходскими заботами, назойливой игривости не избежать. Дороти привыкла, давно привыкла к этим уже не первой молодости охотникам с брюшком и жадным взглядом, которые сбавляют скорость автомобилей, когда проходишь мимо по дороге, или завязывают светское знакомство и через десять минут начинают лапать за коленку. Разные среди них ей попадались. Однажды даже важное духовное лицо, капеллан местного епископа, который…
Бог с ним! Не лучше, а хуже – о, несравненно хуже! – получалось, когда мужчины бывали порядочными и вели себя достойно. Воспоминания унесли ее в дни пятилетней давности, к милому Фрэнсису Муну, викарию из храма Святого Уэдекинда в Миллборо. Дорогой Фрэнсис! Как счастлива она была бы выйти за него, не будь только всего этого! Тысячу раз он просил ее стать его женой, и, разумеется, она столько же раз сказала «нет», а он, конечно, совершенно не понял почему. Объяснить было невозможно. А потом он уехал и год спустя так неожиданно, нелепо умер от воспаления легких. Дороти зашептала молитву о душе бедного Фрэнсиса, забыв в эту минуту, что отец не вполне одобряет молитвы о покойных. Затем усилием воли подавила воспоминания. Ах, лучше не думать, не будоражить себя снова. Слишком больно.
Замуж она не сможет выйти никогда, давно (да, собственно, еще ребенком) решила Дороти. Никто, ничто не одолеет ее ужас перед всем этим – от намека на жуткую тему что-то внутри сжималось и леденело. В известном смысле здесь присутствовало и нежелание пересилить себя, ибо, как все люди с психическими отклонениями, она не вполне четко сознавала, что они есть в ней – отклонения.
Непобедимый сексуальный страх казался Дороти естественным и неизбежным, хотя она в общем-то знала, где его исток. Поныне ясно, четко помнились сцены кошмарных отношений отца и матери – сцены, происходившие при ней, когда ей было не больше девяти. А чуть позднее те пугавшие гравюры с нимфами и преследующими их сатирами. Темной, неизъяснимой жутью вползали в ранние впечатления фигуры рогатых полулюдей, подстерегающих в чаще, крадущихся из-за стволов, чтобы внезапно выпрыгнуть, схватить добычу. Девочкой она целый год боялась войти в лес, где живут страшные сатиры. Потом, конечно, ребяческий испуг прошел, но не прошло рожденное им чувство. Образ сатира прочно затаился в ее сознании. Вероятно, ей не суждено избавиться от этого безумного бегства, от настигающего, застилающего мозг ужаса: цокот копыт в глухом лесу и мускулистые косматые ляжки зверя. Такие странности сознания не сотрешь, не закрасишь. К тому же в наши дни они слишком обыкновенны среди интеллигентных девушек, чтобы кого-то удивлять и волновать.
Когда Дороти добралась до дома, буря переживаний почти затихла. Все, что клубилось в голове – сатиры, Варбуртон, Фрэнсис Мун, ее женская обреченность, – постепенно рассеялось; на первый план твердо и укоризненно вышли ботфорты. Она прикинула, что еще часа два ночью сумеет поработать. Тихо, темно. Она скользнула в заднюю дверь и дальше пошла на цыпочках, боясь неосторожным шорохом разбудить отца, который наверняка уже уснул.
На полпути в теплицу, ощупью пробираясь через коридор, Дороти ясно поняла, как дурно она поступила, пойдя сегодня к Варбуртону. Никогда, даже если в его доме будут другие гости, она не ступит туда ногой, а завтра обязательно накажет себя за легкомыслие. Так что Дороти первым делом нашла в оранжерее свою уже составленную для следующего дня памятку и возле пункта «завтрак» карандашом вписала крупное заглавное «Е» («Е» означало «епитимья», то есть опять ни крошки бекона с утренним чаем). Потом зажгла под клееваркой керосинку.
Желтый круг лампы, освещая столик со швейной машинкой и грудой полузаконченных костюмов, напоминал о бесконечности необходимых дел, а также о ее сегодняшней смертельной усталости. Усталость эта, позабытая в момент, когда ее коснулись руки Варбуртона, теперь вернулась, навалилась двойной тяжестью. Вообще испытывать такой упадок сил Дороти раньше, кажется, не приходилось. Она ощущала себя в полном смысле слова разбитой. На несколько мгновений ее окутало и растворило странное чувство: голова опустела, никакого представления о том, как, для чего она сюда пришла. Наконец прояснилось – да, ботфорты! Какой-то гаденький бесенок нашептывал: «А почему бы не пойти сейчас лечь спать, не отложить эти ботфорты до завтра?» Пришлось немного помолиться о даровании сил и крепко ущипнуть себя («Не отлынивайте, Дороти! Надо работать! Возложи руку свою на плуг; см: Лука, 9:62). Очистив край стола, она достала ножницы, карандаш, четыре листа бумаги и, пока клей растапливался, приступила к выкройке сложнейшей части сапога – стопы.
Она еще работала, когда часы в отцовском кабинете отбили полночь. К этому времени объем ботфортов определился и начался самый противный, грязный, нудный этап – укрепление формы путем обклеивания сеткой узких бумажных полосок. Каждая косточка ныла, руки дрожали, глаза слипались. Дороти уже смутно понимала, что она делает. Но машинально продолжала клеить полоску за полоской и поминутно щипать себя, чтобы не поддаваться усыпляющему тихому клокотанию клееварки.
1
Из черноты глухого сна, словно ее долго тащило сквозь бездонный мрак к мутной и постепенно светлеющей поверхности, Дороти возвратилась в пределы сознания.
Глаза еще были закрыты. Но вот веки почувствовали свет, затрепетали и непроизвольно раскрылись. Она увидела улицу – бойкую неказистую улицу с рядами сплошных узких фасадов и мелких магазинчиков, с бегущими потоками людей, трамваев и машин.
Впрочем, неверно говорить, что она видела. Объекты зрения не опознавались как люди, автомобили или иные определенные предметы; даже не различались как предметы движущиеся и неподвижные, вообще как предметы. Пока она только смотрела, подобно созерцающим животным: не размышляя, почти не воспринимая. Уличные шумы – галдеж толпы, квакающие клаксоны, громыхание скрежещущих на поворотах трамвайных колес – текли общим сторонним гулом, отзываясь лишь в барабанных перепонках. У нее не было ни слов, ни понятия о словах, она не ведала ни времени, ни места, ни своего тела, ни даже собственного существования.