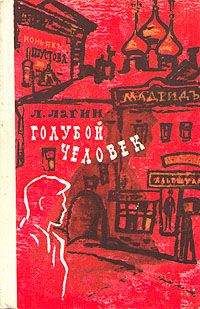Самые отчаянные, самые любопытные кремпцы толпились метрах в трехстах. Они увидели, как в начале десятого часа в темный провал двери, зиявший как врата ада, вошли санитары в респираторных масках, длинных резиновых балахонах, высоких сапогах, резиновых, с мощными раструбами рукавицах, неся тяжелые бидоны с бензином. Они пробыли там, внутри, минут десять и вернулись на улицу уже без бидонов. Санитаров обильно опрыскали какой-то вонючей дезинфицирующей жидкостью. Они стянули с себя маски, обнаружив вспотевшие, бледные от волнения лица. Потом старший санитар или кто-то в этом роде взял обыкновенную ракетницу и трижды выстрелил в распахнутые окна спальной и столовой и в лавку Фрогморов зажигательными ракетами, и это был как бы сигнал огню, что ему предоставляется слово.
Но огню было не к спеху. Тихий голубенький язычок пламени воровато выглянул из окошка спальни, словно его послали посмотреть, не стоят ли где поблизости пожарные с брандспойтами наготове. Но пожарные с брандспойтами стояли в отдалении, готовые спасать от огня любые дома, кроме дома Фрогморов. Дом Фрогморов их уже не касался. Тогда язычок на несколько секунд исчез внутри квартиры, как если бы он пошел докладывать обстановку. И вот вспыхнуло и с треском и гуденьем вырвалось сквозь окна и двери наружу уверенное в себе, наглое, веселое и красивое пламя. Оно быстро заглатывало раздувавшиеся на сквозняке, потертые оранжевые бархатные шторы. Потом занялись подоконники, из окон и дверей повалил густой темно-сизый дым. Запахло гарью и тянучками. Это загорелись рундуки с сахаром. Потом донесся приятный запах жареной колбасы, жареной рыбы. Беззвучно лопнула нарядная стеклянная вывеска и пошла пузырями на ее осколках золотая и темно-синяя краска…
Хорошо (это было всеобщим мнением), что вдовы Фрогмора не было среди зрителей. В это время она после здоровенной дозы противочумной сыворотки томилась в просторном темноватом изоляторе для заразных больных, то горюя по мужу, которого она, в конечном счете, все-таки по-своему любила, то ища в себе грозных симптомов чумы (боже, сколько раз она прикасалась к нему за последние трое суток!), то прикидывая в уме, как она теперь одна, без мужчины управится с домом и магазином, да еще в такую сложную и тяжкую пору. Ее пожалели. Ей не сказали, что ни дома, ни магазина, ничего, даже носильных вещей, ничего у нее не будет с сегодняшнего утра.
Что ни говори, а такая ужасная смерть и такое исчерпывающее разорение производят впечатление. Жалко было этого болвана Фрогмора, хотя он и был сам виноват в своей смерти, жаль было и его вдову, хотя характерец у нее, я вам доложу… Все равно жалко. Была даже какая-то особая сладость в сочувствии такому разностороннему горю человека, которого ты недолюбливаешь. Некоторым доставляло тайное удовлетворение наблюдать, как горит чужое добро в то время, как твое, благодарение всевышнему, находится пока в сравнительной безопасности. Но с другой стороны, все-таки обидно, когда зря, без перспективы получить страховую премию, превращается в золу и угли добротный двухэтажный дом, битком набитый мебелью, одеждой, бельем, посудой и бакалейными товарами. Подумать только, что если бы не клятва бедняги Фрогмора… А кто вызвал беднягу на эту роковую клятву?..
И дернула же Гая Фелдера нелегкая появиться поблизости именно тогда, когда в треске, дыму и пламени сгорало все, ради чего супруги Фрогморы прожили долгую и унылую серенькую жизнь. Не всякий негр решился бы сейчас показываться в этом районе. Но Гай Фелдер был не «всякий негр», не какой-нибудь голоштанник из тех, которых только пальцем помани, и они побегут за первым попавшимся «красным» агитатором. Это был «хороший» негр, который понимал свое место, потихоньку торговал у себя в лавке и за двадцать шагов снимал шляпу перед встречным белым. Если хотите знать, его всегда ставили в пример другим неграм. Поэтому-то он и рискнул выбраться так далеко из негритянского квартала. Уж очень его тянуло посмотреть, как вылетает в трубу такой богатый бакалейный магазин! Любого бакалейщика не могло не волновать такое событие, а Гай Фелдер чувствовал себя в это печальное утро больше бакалейщиком, чем негром.
– А, Фелдер, и ты здесь? – окликнул его кто-то почти дружелюбно.
Гай униженно закивал лысой головой и улыбнулся. Попробовал бы он не улыбнуться, отвечая белому, – любому белому, а особенно ветерану. Разговаривая с белым, негр должен, если хочет остаться живым и здоровым, улыбаться, чтобы показать, как он счастлив от этой незаслуженной чести. Вот он и улыбнулся.
– Он улыбается! – не поверил своим глазам шофер пожарной машины. – Этот черномазый ухмыляется, когда по вине ему подобных помер такой выдающийся белый!
– Что вы, сударь! – обмер Гай Фелдер, а про себя подумал, что зря не послушался жены: не надо было, ах, как не надо было ему идти сюда. – Как я могу радоваться смерти такого замечательного человека!
Он попытался юркнуть в толпу, но встретил плотную стену людей, которым показалось, что вот она, наконец, и обнаружена – истинная причина всех обрушившихся на них бедствий: негры, вот из-за кого приходится погибать от чумы и разоряться вполне достойным белым! И они еще смеют рыскать поблизости, чтобы насладиться бедой белых, и они еще имеют наглость при этом улыбаться!
– Тебе весело, черномазый? – ласково спросил Фелдера все тот же шофер, подбодренный всеобщим вниманием и все более распаляясь. – Тебе очень весело? Чего же ты молчишь? – И он ткнул Фелдера кулаком в нос. Из носа хлынула кровь.
– Вы ошибаетесь! – взвыл Фелдер и заметался перед сомкнутым строем белых. – Мне совсем не весело, сударь…
– Теперь-то тебе, конечно, не весело, – рассудительно согласился шофер и снова ударил его, на сей раз в грудь. – А ты улыбайся… Чего же ты, лысый африканец, не улыбаешься? Ты улыбайся!
– Эй, ребята, осторожней! – закричал Довор, который не вмешивался в эту историю, потому что она и без его помощи разыгрывалась как по нотам. Головешки!
Действительно, в мощных струях теплого воздуха над горевшим домом взмыли одна за другой несколько головешек. Толпа бросилась врассыпную, и Фелдер пустился наутек, рассчитывая, что в суматохе о нем забудут. Но о нем не забыли. За ним кинулись несколько молодцов с особенно развитым охотничьим инстинктом, который, как известно, ничем так не подогревается, как сознанием полнейшей безнаказанности. Фелдера было совсем не так уж трудно догнать: ему уже шел шестьдесят третий год, а он и в молодые годы не отличался особенным проворством. Но его нарочно не сразу догнали, чтобы дать ему подумать, будто он и в самом деле в состоянии от них ускользнуть. Но это им скоро надоело, да и не хотелось особенно далеко удаляться от дома Фрогморов. Они без труда догнали его, повалили на замусоренную мостовую и стали топтать. Фелдер уже ничего не чувствовал и почти не дышал, когда снова, как вчера, как третьего дня, завыли сирены воздушной тревоги, и это был один из тех редких случаев, когда налет вражеской авиации спас человеческую жизнь.