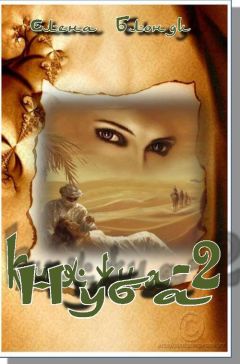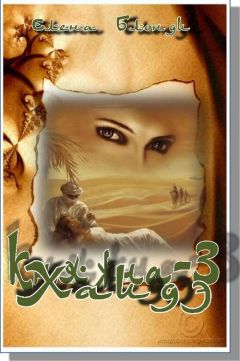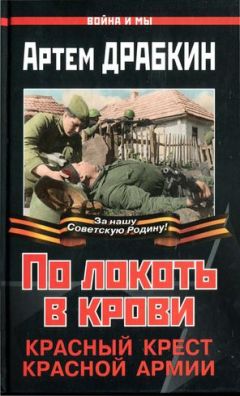И снова расхохоталась птица Гоиро, поворачивая набок голову, разглядывая мелкоту черным блестящим глазом.
— Это твои выпрошенные? Ну, пусть живут. И плодятся, как прочее. Разве смогут мне навредить!
Но заметив на лицах первых богов непонятную тень улыбки, щелкнула клювом.
— Лишь одно я подарю твоим последышам, мать темноты. Свой цвет. Будут черными, как я, их владетель и повелитель. И тогда не трону, пусть живут.
Взмахнула крыльями, поднимая ледяной северный вихрь, и в нем, кружась, исчезли первые боги, заброшенные в блистающую высоту, откуда землю и не разглядеть. Горько плача, летела все выше женщина-свет, и хмуро молчал, летя рядом с ней, мужчина-ветер. Потому что родив человеков, первые боги дали им светлый цвет надежды. Их надежды на то, что всегда люди будут стоять на защите света. Но птица Гоиро отобрала надежду, и теперь, если идут люди из своей людской жизни в верхние воины, то лишь в темную армию первенца мира — ночной птицы Гоиро.
— Потому людям лучше жить обычную земную жизнь и не задирать голову к светлым богам, — ворчливо и буднично закончил сказку старик, — а то полетишь, весь в надеждах, и все равно попадешь к птице ночи, да будет гнездо ее теплым, а птенцы толстыми.
— И чем сильнее захочется к свету, тем быстрее заберет тебя птица Гоиро, — договорил мальчик и опустил голову, думая. Но тут же поднял и поторопил собеседника, — ты ешь-ешь, мясо горячее еще, я пек его в листьях.
Годоя кивнул, отрывая белыми зубами еще кусок, устроился удобнее у камня, сосредоточенно жуя. Маур сидел напротив, положив копье на колени, и хмурясь, шевелил губами. Потом ответил сам себе, продолжая мысленный спор:
— Не должно быть так. Те кто выше, они если родители, должны любить своих детей. И ждать их.
— Они и любят, — отозвался Годоя, проглотив мясо и протягивая длинную руку, нащупал у колен мальчика фляжку.
— А что от той любви? Если между нами и светлыми — стоит ночь. И наказания.
Маур вздохнул. Спохватившись, скрестил пальцы, свел их с ладонью другой руки и прошептал слова благодарности птице Гоиро, за то, что день прошел без ее кары. И по-своему истолковав молчание годои, сказал еще:
— Я поклоняюсь ночной птице, и вот смотри, я опускаю лицо и говорю слова, чтоб она знала — сила ее велика и всегда будет велика. Гоиро не унесет меня за мелкие слова, я мальчик, я еще не проходил обряд, мне говорить можно, все что угодно, в моих словах силы нет. А потом уже не смогу. Когда отдам себя в руки бэйунов, я стану виден ночной птице. Как все мужчины.
Он вздохнул.
— Тогда и не поговорю, как сейчас. Скажи, годоя, а тебя видит ночная птица?
Рядом в темноте зашуршала трава — годоя положил фляжку с плеснувшей внутри водой.
— Я не знаю. Не знаю, кто я, и, значит, не могу ответить тебе, видит ли меня твоя птица.
— Ты годоя в человеке, — уверенно сказал мальчик, — а если я посвечу на тебя факелом, то увижу, ты уже мужчина. Но все равно, хоть птица Гоиро видит тебя, ты — ее годоя. Потому ты можешь мне рассказать о своей матери-птице побольше. А? Пока еще можно мне слушать тебя.
В темноте большой черный мужчина, привалившись к неровному валуну, провел рукой по своей груди, по животу, ощупал торчащие ребра. И вдруг спросил:
— Годоя это кто? Для чего?
Маур воздел худые руки, что-то шепча. Зашелестели браслеты на запястьях. И звякнули, когда он хлопнул себя по бокам, удивляясь. Мешая в голосе удивление с удовольствием от того, что такой большой, а глуп, как ребенок за спиной матери, заговорил:
— Годоя говорит будущее. Так повелела птица Гоиро, пусть ее крылья всегда будут блестящими и черными. Годоя рождается от новой луны, падает в рот бэйуну, он выплевывает годою в вещь и отдает говорильщику. И тогда вещь говорит с нами. Любой мужчина племени может принести годое подарок и три вопроса. Один раз в дожди и один раз в сушь. И годоя ответит. Мужчина может принести годое вопросы своих жен. Если ему не жалко на них подарков. Но все равно вопросов будет три. До прошлых дождей годоя был в деревне, в домике, что стоял у дверей папы Карумы. Годоя был в большом толстом кувшине, красивом, с узорами. Потом кувшин перестал говорить и папа Карума унес годою. С тех пор мужчины носили подарки сюда. Я думал, годоя в дереве. Или в камне. А тут ты.
— Я, — согласился великан.
— Но как же ты не знаешь, что ты годоя? Как же говоришь будущее тогда?
Собеседник пожал плечами в темноте. И улыбнулся удивлению мальчика.
— Так же, как говорил кувшин.
Маур покивал, обдумывая. И вдруг ощутил страх и жалость. Огромный, сильный, с зубами такими белыми, что луна светит на них, как на озерную воду. С мощными руками, способными свалить быка. И всего лишь кувшин для годои. Сейчас Маур уйдет, таясь, чтоб дремлющий у костра Карума не заметил его отсутствия, а великан снова покорно сядет к стволу старой акации и под кожаным мешком закроются глаза, будет сидеть день и два и три, ожидая, когда придут из деревни с подарками для Карумы, говорить с годоей. Вот уже и пора…
Черный пленник будто услышал мысли мальчика, зашевелился. Подойдя к стволу, уселся в привычную позу, обхватывая руками колени. Ждал, когда Маур намотает на шею ремень и натянет на большую голову гладкий кожаный мешок без дырок для глаз.
— Может быть, ты уже начнешь вспоминать, кто ты? А? — просительно сказал мальчик, комкая в руках мешок, — пока я еще не мужчина.
— А скоро?
Маур показал темноте пальцы:
— Дожди и еще дожди. И после сушь — перед еще дождями.
— Два года, — сказал пленник равнодушно, — это большое время, Маур, можно не торопиться.
Задерживаясь на курчавых коротких волосах мешок скользнул по щекам, защекотал подбородок. И в двойной душной темноте, слушая, как голова улетает от нехватки воздуха, пленник закрыл глаза, забывая о мальчике, медленно погружаясь в мир памяти.
Он все помнил. Каждую ночь, когда мужчины, получив свои предсказания, уходили, топоча и возбужденно переговариваясь, он вздыхал с облегчением от того, что остался один. И можно снова уйти туда, где кричала по весне птицами степь, а по небу ползали радостными щенками мелкие облака, такие белые, что больно глазам.
И днями, когда солнце палило сквозь суставчатые ломаные ветки, а лавовые камни торчали, насколько хватает глаз, по правую его скулу, а по левую, посреди невысоких серых скал, бродили по траве коровы и овцы Карумы, — он радовался, что не видит ничего под горячим кожаным пузырем, из-под которого текли быстрые капли пота. И что никто не тревожит его мыслей, слишком вокруг дико, жарко, да и беспокоить годою — опасно и незачем.