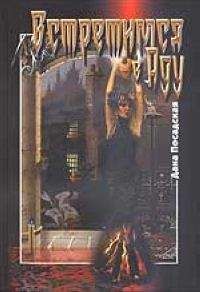Она бросилась прочь от окна. Скорее, уцепиться бы за что-то…
Лоб раскололся от боли — она налетела на шкаф. Её шкаф, покосившийся, скрипучий. Чудесный шкаф. Покосившийся — значит, старый. Старый — значит, надёжный.
Она осторожно открыла неподатливую дверцу. Аромат нафталина и пыли. Тугие стопки белья. Она вспомнила руки матери с тяжёлым утюгом, скользящим по этому белью. Влажный пар… У матери раскраснелось лицо и мокрые прядки седых волос липнут к вискам.
Она глубоко вздохнула, прижалась к белью лицом. Какое белое, какое прохладное… Как снег…
…Она неподвижно лежит на снегу, ничком, так что не видно лица. И кровь сочится, сочится из шеи. И снег становится розовым, как клубника. Над ней кружат вороны, и волки подходят всё ближе и ближе. Голодные волки с ободранными впалыми боками. Но ей всё равно, её уже нет. Как хорошо… как хорошо умереть…
Умереть? Но тогда она будет лежать на кладбище, в могиле, глубоко под землёй, её тело разорвут железные корни. А они сожгут город, они посадят алые цветы. И Лилит будет танцевать на её могиле в красных башмачках…
Она уже здесь, она выходит из тени. Белое лицо, тёмные глаза…
Нет, это не Лилит. Это она сама, её отражение в затёртом зеркале на дверце шкафа. Губы вывернуты страхом, в глазах — вопль: оставьте меня! Оставьте меня в покое!
«Это лезвие рассечёт тебя пополам, отнимет всё и не даст ничего»…
Она опускается на колени, судорожно роется в дебрях шкафа. Вот он, ящик с её старыми игрушками. Её плюшевый мишка, побитый молью. У него не хватает лапы и надорвано ухо. Она тискает его так сильно, что из прохудившихся швов вылезают опилки и царапают ей ладони. Мой мишка, мой медведь, защити меня, отгони волков и ворон…
А это её любимая кукла. Большая, в коротком розовом платьице. Фарфоровые щёки недовольно надуты, золотистые локоны свалялись. Глаза закрыты — когда-то они открывались. Она осторожно качнула куклу. Та подняла облезлые ресницы и посмотрела ей прямо в лицо. Глаза у куклы были голубые.
«Я — пожар в твоём доме, рушащий балки и превращающий старые снимки и фарфоровых кукол с голубыми глазами…»
Матильда разжала руки. Кукла упала на пыльный ковёр. Медленно, очень медленно её голова отделилась от тела и покатилась…
…Она сидела на полу, не в силах подняться, зажимая влажный рот кулаком. Вдруг она вспомнила. Да, конечно. Эта кукла прежде несколько раз теряла голову и её приклеивал Ян… Ян!
Да, Ян! Её брат. Краснолицый, твёрдый, квадратный. Похожий на этот тяжёлый шкаф, на плюшевого мишку, набитого опилками. Он сделает это, он спасёт, он отгонит волков, он приклеит голову кукле…
И она побежала вниз, сжимая в одной руке — оторванную голову, в другой — тело, обряженное в розовое платье. Ноги куклы били её как живые.
Ян! Ян!
Она налетела на него, всхлипнула, уткнулась лицом в его грудь. От него пронзительно пахло потом. И какой он уродливый, господи. И она такая же, они похожи. В том танцевальном зале она становилась всё уродливее и старше. А Шарлотта была там и не видела её, ей было всё равно, всё равно…
«Ян, приклей голову кукле», хотела она попросить, но не могла, её губы были как из песка. Вместо этого она сказала:
— Шарлотта…
— Шарлотта? — Он отстранился. — Ты пойдёшь к ней? Сегодня? Сейчас?
— Нет, нет. Я не пойду к ней и ты не ходи.
— Почему? — Он смотрел на неё исподлобья, набычившись, с детским недоумением. — Почему?
Потому что она — одна из них. Она не такая, как мы. Она сидела в том бальном зале, держа чёрный веер… А он стоял у неё за спиной, он ласкал её плечи руками в белых перчатках, гладил её шею, а она закидывала голову. А потом он нёс её на руках по сожженному городу, залитому кровью…
Она не могла это сказать.
— Не ходи, — прошептала она снова. Голоса не было, только вздох. — Не ходи к Шарлотте… никогда.
Она отбросила голову куклы, и та покатилась по полу, блестя голубыми глазами.
2
«Ибо прах ты, и в прах возвратишься»…
Гроб опускался в чёрную землю, и заходящее солнце мусолило липким воспалённым языком грубую крышку из тёмного дерева.
Тот, кто лежал в гробу, когда-то был человеком… мужем… отцом… Но теперь от него осталась лишь оболочка — опустошённая, скомканная, как обёртка от конфеты.
Впрочем, черви неприхотливы и умеют довольствоваться малым. Добродетельные существа, не так ли?
Воздух был жидким, синим, холодным. В дальнюю кладбищенскую стену, отяжелевшую от рыжего плюща, закат забивал раскалённые гвозди.
Вокруг свежей могилы, пронзительно пахнущей влажным чернозёмом, толпились люди. Мужчины — однообразные, прямоугольные и квадратные. И женщины — одни худые, как мётлы, с обглоданными лицами и колючими глазами; другие — дородные, круглые; их телеса колыхались, как желе, под траурными тканями.
Женщины сбивались в стаи, жужжали, лопотали, гудели на все лады, оставаясь при этом в рамках почтительного шёпота. Да, да, да… Нет, нет, ну что вы… Да-да-да, всё та же история… Да, ужасно… Ах, ужасно… Да, на окраине…Нашли на рассвете… Да, конечно… Нет, как можно… Полиция молчит… Никто не видел тело… Как? Отчего? Никто… не известно… Да, чудовищно… Одно и то же… да… каждую ночь…
Вдова стояла поодаль, неподвижно, как истукан. Её лицо ободрал и отморозил ветер, щёки заскорузли от слёз. Она держала за руку мальчика лет четырёх — хрупкого, болезненно бледного с большими серыми глазами.
Мальчик смотрел то на небо с жёлтыми разводами заката; то на шиповник, надменно крививший пунцовые губы; то на землю, проглотившую тело того, кто когда-то дал ему жизнь.
Деревья вокруг щеголяли всеми оттенками осени, точно насмехаясь над убогой процессией в чёрных тряпках, провонявших нафталином.
Мальчик глубоко вздохнул и потянул мать за руку.
— Мама, пойдём… Мне здесь не нравится… Мама…
Она не ответила.
— Мама, здесь скучно… Я хочу… я хочу туда… на Карнавал.
По телу женщины словно пропустили электрический разряд. Не глядя, она вскинула руку и залепила сыну пощёчину.
Он беззвучно открыл рот и снова закрыл. Выдернул ладонь из материнской руки. Его накрыло огненной волной ненависти к этому сухому манекену, стоявшему рядом и облечённому властью над ним.
Из носа вдруг потекла густая тёплая струйка. Он высунул язык, аккуратно слизнул и прислушался к новому вкусу.
Где-то глубоко внутри разжалась тайная пружина, и острая игла вошла в сердце, но это было совсем не больно, а даже приятно. Он вспомнил Карнавал. Воспоминание было смутным, размазанным, как сон или его неумелый рисунок красками. Но одно он помнил хорошо. Это была фея с белой светящейся кожей и зелёными кошачьими глазами. Она танцевала — высоко-высоко — над деревьями и крышами… И она смотрела на него, тянула к нему руки, звала за собой… А потом он убежал от матери и нашёл её, и она гладила его холодными, как снег, лёгкими руками и шептала: «Ты не обычный мальчик… ты красивый мальчик…» И он не хотел уходить, хотел остаться с ней, с Карнавалом, а она улыбалась и качала головой… и что-то обещала… он не помнил…