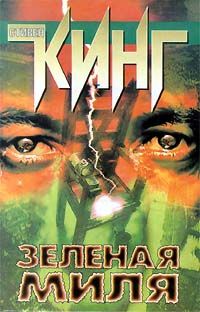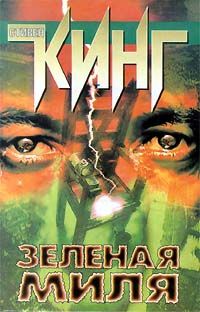— Помогите мне! — закричал я. — Помогите! Помогите мне кто может!
Никто не помог, никто не пришел. Дождь лил и лил, сильный, нескончаемый дождь, прибивший мои еще черные волосы к черепу. Я держал Джейнис на руках, и никто не приходил. Ее пустые глаза смотрели на меня, из разбитой головы лилась кровь. Рядом с ее дрожащей, со спазматически сжимающимися пальцами рукой лежал кусок хромированного металла с надписью «ГРЕЙ». Чуть дальше — примерно четверть некоего бизнесмена в коричневом костюме.
— Помогите мне! — вновь крикнул я и повернулся к мосту, под которым в тени увидел призрак Джона Коффи, гиганта с длинными, висящими как плети руками и лысой головой. — Джон! — заорал я во весь голос. — Джон, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, помоги Джейнис!
Дождь залил мне глаза. Я стряхнул воду, но Джон пропал. Я видел тени, которые я принял за Джона… но не только тени. Он там был. Может, только призрак, но был. И дождь на его лице смешивался с вечно струящимися из глаз слезами.
Она умерла у меня на руках, под дождем, рядом с грузовиком, перевозящим удобрения, в воздухе, пропитанном запахом горящего дизельного топлива. Момента просветления не было, ее глаза не очистились, перед смертью Джейнис не признала меня, губы ее не прошептали последнее «люблю». Последний раз дрожь пробежала по ее телу, и она ушла. Я подумал о Мелинде Мурс. Первый раз за много лет. О Мелинде, сидящей на кровати, в которой она, по прогнозу врачей из больницы Индианолы, и должна была умереть. О Мелинде, посвежевшей, помолодевшей, не отрывающей восхищенных глаз от Джона Коффи. О Мелинде, говорящей: «Я видела тебя во сне. Я видела, ты блуждал во тьме, как и я. Мы нашли друг друга».
Я положил мою бедную жену на землю, поднялся без труда (повторюсь, я отделался лишь царапинами да синяками) и прокричал теням под мостом:
— Джон! Джон Коффи! Где ты, здоровяк?
Я пошел к теням, переступая через плюшевого медвежонка, перепачканного кровью, очки с одним разбитым стеклом, оторванную руку с обручальным кольцом на пальце.
— Ты же спас жену Хола, почему не мою жену? Почему не Джейнис? Почему не мою Джейнис?
Нет ответа. Только запах горящего дизельного топлива и горящих тел, только дождь, падающий с серого неба и барабанящий по земле, по асфальту, по мертвому телу моей жены. Я не услышал ответа тогда, не слышу его и теперь. Разумеется, в 1932 году Джон Коффи спас не только Мелинду Мурс, не только мышонка Дела, того самого, что стрелой мчался за катушкой и искал Дела задолго до того, как тот появился на Зеленой миле… задолго до того, как там появился Джон Коффи.
Джон спас и меня, и потом, много лет спустя, стоя под проливным алабамским дождем, пытаясь разглядеть в тенях под мостом человека, которого там не могло быть, окруженный изувеченными телами и вещами, вывалившимися из раскрывшихся чемоданов, я открыл для себя чудовищную истину: иногда нет абсолютно никакой разницы между спасением души и осуждением ее на вечные муки.
Я ощущал, как то ли первое, то ли второе вливается в меня, когда мы сидели вместе с Джоном Коффи на его койке восемнадцатого ноября 1932 года. Выливается из него и вливается в меня. Какая-то необъяснимая сила, живущая в нем, переходила в меня через наши соединившиеся руки, как не могут перейти любовь, надежда, добрые чувства. Ощущения эти начались с покалывания, а превратились во что-то огромное, захватившее все тело. Такого я не испытывал ни прежде, ни после. С тех пор я не болел ни воспалением легких, ни гриппом, ни ангиной. Не страдал никакими внутренними хворями. Царапины заживали на мне как на собаке. Если я и простужался, то раз в шесть-семь лет и очень быстро выздоравливал. Однажды, в начале того самого злосчастного 1956 года, у меня вышел камень. И пусть кому-то покажется это странным, особенно если он прочитал написанное выше, но часть моего разума наслаждалась болью, вызванной выходом камня. Собственно, впервые за двадцать четыре года, после того как Джон Коффи избавил меня от урологической инфекции, я испытал настоящую боль. Болезни уносили моих друзей и людей, являвшихся символами нашего поколения, пока они не ушли все. Инсульты, инфаркты, раковые заболевания, цирроз печени, болезни крови обходили меня стороной. Вот и в катастрофе автобуса я практически не пострадал. В 1932 году Джон Коффи вакцинировал меня жизнью. Привил иммунитет ко всем бедам, с которыми может столкнуться человек. В конце концов я уйду, разумеется уйду, иллюзий насчет бессмертия у меня нет (ушел же Мистер Джинглес), но я буду жаждать смерти задолго до того, как она настигнет меня. По правде говоря, я уже хочу умереть, с того самого дня, как умерла Элейн Коннолли. Нужно ли говорить вам об этом?
Я проглядываю исписанные листы, перекладываю их дрожащими, в почечных бляшках руками и думаю: а есть ли в написанном какой-то смысл, как в тех книгах, которые должны сеять доброе и вечное? Я думаю о проповедях моего детства, что читались в церквях, где восхваляли всемогущего Иисуса, Господа нашего; я вспоминаю, как проповедники говорили, что взгляд Господний не упускает даже воробышка, Он все видит и все подмечает. Я это понимаю, когда думаю о Мистере Джинглесе и крошечных щепочках, найденных нами в лазе, через который он ушел из изолятора. Однако тот же Бог пожертвовал Джоном Коффи, который пытался творить только добро. Пожертвовал столь же жестоко, как ветхозаветный пророк жертвовал агнца… как Авраам принес бы в жертву сына, если б возникла такая необходимость. Я думаю о Джоне Коффи, говорящем, что Уэртон убил близняшек Деттериков их любовью, что это случается каждый день, по всему миру. Если такое случается, то именно Бог дозволяет этому случаться, и когда мы говорим: «Я не понимаю», Он отвечает: «Меня это не волнует».
Я думаю о Мистере Джинглесе, который умер именно в тот момент, когда мое внимание отвлек на себя плохой, ничтожный человек. Я думаю о Джейнис, дрожащей всем телом в последние секунды жизни, когда я стоял рядом с ней на коленях под проливным дождем.
«Остановись, — пытался сказать я Джону в тот день в его камере. — Остановись, отпусти мои руки, я утону, если ты этого не сделаешь. Утону или разорвусь».
«Вы не разорветесь», — ответил он, услышав мою мысль и улыбнувшись. И я действительно не разорвался. Не разорвался.
У меня лишь одна старческая болезнь: бессонница. Допоздна я лежу в кровати, слушая, как в соседних комнатах кашляют старики и старухи. Иногда я слышу звонок вызова, торопливые шаги дежурной сестры по коридору, ночной выпуск новостей: сестры включают телевизор, стоящий на их столике. Я лежу и наблюдаю, как медленно плывет по небу луна. Я лежу и думаю о Зверюге, о Дине, иногда об Уильяме Уэртоне, говорящем: «Ты прав, ниггер. Плохой для таких, как ты». Я думаю о Делакруа с его: «Посмотрите, босс Эджкомб, я научил Мистера Джинглеса новому трюку». Я думаю об Элейн Коннолли, стоящей в дверях веранды-солярия и требующей от Брэда Доулена, чтобы он оставил меня в покое. Случается, что, задремав, я вижу пелену дождя, мост, а под ним Джона Коффи. Во сне я вижу его ясно и отчетливо, такое не спишешь на разыгравшееся воображение, он стоит, мой здоровяк, и наблюдает. Я же лежу и жду. Я думаю о Джейнис, о том, как потерял ее, о том, как она уходила от меня под дождем, и я жду. Мы все обречены на смерть, все без исключения, я это знаю, но, о Господи, иногда Зеленая миля так длинна.