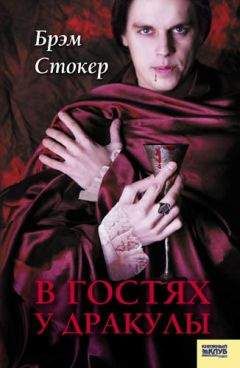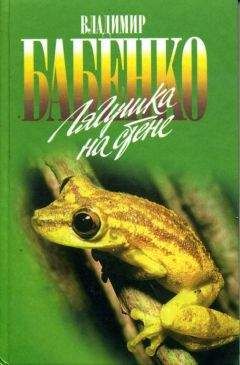Отто рванулся к нему, не разбирая дороги, спотыкаясь на влажных от росы камнях и раздирая пижаму о кусты.
«Сними цепочки и брось их в сторону».
Отто зашарил по телу, отыскивая и срывая цепочки.
«Открой для меня шею. Я хочу пить твою кровь!»
Отто покорно, как ягненок на заклание, склонил голову на бок, открывая худую шею с торчащим кадыком. Красноватая, грубая кожа на шее покрылась пупырышками от холода.
Курт минутку полюбовался этим приятным зрелищем: коленопреклоненный дядя и открытой для укуса шеей! Ах, как он сожалел о том, что этот безумец Вильфред убил дядю Августа! Вот кого Курт хотел бы видеть перед собой на коленях… Но, с другой стороны, дядя Август всегда был трусом, а за время пребывания в замке почти потерял рассудок от ужаса перед происходящим. Так что в некотором смысле дядя Отто даже интереснее.
И Курт приказал своей жертве то, что никогда не пришло бы в голову более старому и опытному вампиру:
«Отто, проснись!»
И Отто проснулся.
Он ощутил себя — босым, исцарапанным, со сбитыми о камни ногами, в изодранной и промокшей от росы пижаме… На коленях, с открытой для укуса шеей!
И он увидел Курта перед собой — над собой! — Курта, бледного, с сияющей кожей и горящими рубиновым огнем глазами. Курта, который — Отто это точно знал! — был мертв. Курта, который сейчас улыбался ему… А из-под приподнятой верхней губы его выползали длинные, узкие, загнутые на концах, очень острые клыки!
Отто заверещал и кинулся прочь.
Курт позволил дяде отбежать достаточно далеко — добежать до самых дверей замка, за которыми дяде чудилось спасение! — а затем, легко взметнувшись в воздух, в секунду пролетел это расстояние и обрушился на Отто сверху.
Дикий визг Отто прорезал тишину.
Курт расхохотался — беззвучно, услышать его могли бы только вампиры и те из смертных, кому он разрешил бы слышать, впрочем, Отто слышал его смех, Отто слышал! — и с тихим рычанием вонзил клыки в артерию дядюшки.
Отто визжал, судорожно загребая руками и ногами, извиваясь всем телом на земле, под тяжестью прижавшего его сверху вампира.
Курт жадно пил кровь.
Да, конечно, пить кровь у бессознательной, полубесчувственной, полностью послушной тебе жертве — гораздо проще.
Но насколько же слаще ощущать трепет ее тела, судорожные попытки освободиться!
Крик Отто оборвался коротким стоном, а после профессор только всхлипывал…
Курт продолжал ритмично сосать кровь, но даже наслаждение не оглушило его настолько, чтобы он утратил бдительность. С другими вампирами такое случалось, с Куртом — никогда. Все-таки при жизни он был солдатом. И потому Курт почувствовал, когда в саду появились и другие вампиры.
Он оторвался от жертвы, коротко лизнул ранки, чтобы кровь не пропадала зря — и поднялся.
Возле скамейки — там, где им обычно оставляли жертв — стояли Мария и Рита. Их глаза горели голодом. Чуть дальше, в темноте деревьев, светилось тонкое лицо графа Карди. Рядом с ним — слегка позади, словно прячась за его плечом — стояла Лизе-Лотта.
Курт подхватил стонущего Отто на руки и понес к ним — осторожно, торжественно — так, как жених несет невесту к брачному ложу!
Он прошел мимо Марии и Риты, и остановился перед графом.
Бросил Отто на землю у его ног.
— Вот, Хозяин. Возьми его кровь.
Граф Карди снисходительно улыбнулся и склонился над профессором Хофером.
Лизе-Лотта проснулась в своем гробу от привычного уже, сосущего чувства голода. Немного полежала, прислушиваясь к себе — и к тихим звукам, наполнявшим подземелье вокруг ее гроба: чьи-то далекие шаги, еще более далекие перешептывания, шелест осыпающегося между старых камней песка, плеск капель, журчание воды… Привычный звуковой фон! С каждым разом ей все меньше хотелось поднимать крышку и выходить. Гроб казался ей уютным убежищем. А за его пределами простирался суетный, враждебный ей мир. Мир, в котором ей приходилось охотиться и убивать.
Когда-то, когда она была еще жива, больше всего на свете Лизе-Лотта хотелось стать сильной. По-настоящему сильной. Чтобы ее уже никто не мог бы обидеть, а даже напротив: чтобы она могла отомстить всем, всем… Еще ей хотелось, чтобы о ней кто-то заботился, как о ребенке. Как о маленьком, беззащитном ребенке. И еще — преложить заботы о Михеле со своих плеч на чьи-нибудь еще. Да, ей хотелось стать сильной, ей хотелось найти покровителя, ей хотелось избавиться от забот — и все для того, чтобы наконец-то обрести свободу и покой! Она никогда не знала покоя и свободы… И всегда мечтала о них.
Теперь все сбылось. Она стала сильной и больше никто не представлял опасности для нее, зато она была опасна для всех! Милый Раду заботился о ней именно так, как ей когда-то хотелось. И заботы о Михеле как-то сами собой снялись с нее…
Но вот покоя она так и не обрела. Наоборот: теперь ее существование стало еще тревожнее, чем тогда, когда в груди у нее билось живое сердце! Теперь ей почему-то казалось, что быть жертвой — легче, чем быть палачом.
В самом начале своего призрачного существования, в эйфории от собственной чудесной силы, в упоении новизной, Лизе-Лотта радовалась каждому убийству, каждой капле крови, выпитой у этих солдат! Тогда ей казалось, что она — это уже больше не она, а какая-то другая женщина: сильная, отважная, безжалостная, беспечная, прекрасная…
Прошло немного времени и эйфория схлынула.
И теперь Лизе-Лотта понимала, что она — это по-прежнему она. Всего лишь она, Лизе-Лотта Гисслер, по мужу — Фишер. И никому она не отомстила… Убила нескольких солдат — ну, и что с того? Некоторые из них были плохими людьми, некоторые — очень плохими… Но никто из них не был виновен в несчастьях, постигших Лизе-Лотту и ее близких. Никто конкретно — и все вместе! Но отомстить всем — нельзя. Потому что, когда убиваешь одного, другого, третьего, — всем остальным это в лучшем случае безразлично. А в худшем — они позлорадствуют. Или просто порадуются, что несчастье постигло не их, что они — уцелели. Кажется, она хотела отомстить Курту… За что? За тех людей, которых он расстрелял в гетто? Но ведь он в гетто никогда не служил. Это был единичный случай… И в глубине души эти люди были безразличны Лизе-Лотте. Ей было жаль их всех… Но «все» — это слишком расплывчато. На самом деле в Курте она ненавидела не конкретного человека, а символ. Воплощение своей слабости и своих несчастий. Воплощение той силы, которая раздавила ее семью, убила Аарона и Эстер. Но Курт на самом-то деле не был этой силой… Он был всего лишь человеком. А силе отомстить нельзя. И даже Курту она не отомстила: она дала ему вечную жизнь и возможность воплощать все худшее, что только было в нем! Курт радуется, когда приходит время охоты. Курт торжествует, когда прокусывает артерию — и когда чувствует последнее содрогание. А она…