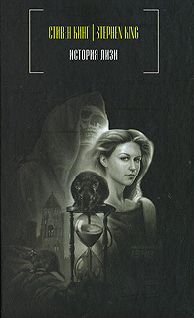Как долго я здесь просидела? — в ужасе спрашивает она себя. Она понятия не имеет, где-то между четвертью часа и тридцатью минутами, но… даже этот отрезок времени слишком уж длинный… хотя теперь она лучше понимает, как устроено это место, не так ли?
Лизи чувствует, что её взгляд вновь притягивается к пруду… к умиротворённости пруда, по которому в сгустившихся сумерках теперь бредут только двое или трое людей (среди них одна женщина, которая держит на руках то ли большой тюк с одеждой, то ли спелёнутого младенца), и усилием воли отворачивается, смотрит на окружающие пруд скалы, звёзды, начинающие пробиваться сквозь тёмную синеву, и редкие деревья, растущие на обрыве. Когда уверенности у неё прибавляется, она встаёт, поворачивается спиной к воде и вновь находит Скотта. Это просто. Жёлтый афган чётко просматривается даже в темноте.
Она идёт к нему, переступая с одного ряда-скамьи на другой, словно на футбольном стадионе. Обходит стороной одну из фигур, завёрнутых в кисею, но света хватает, чтобы увидеть пустые глазницы и кисть руки, которая высовывается наружу.
Это женская кисть с облупленным красным лаком на ногтях.
Когда Лизи добирается до Скотта, сердце бьётся так сильно, что приходится хватать ртом воздух, пусть подъём не так уж и крут. Вдалеке хохотуны вновь подают голоса, смеются над какой-то своей бесконечной шуткой. А с той стороны, откуда она пришла, доносится едва слышный, но доносится, отчётливый звон колокольчика Чаки, и она думает: Заказ готов, Лизи! Поторопись!
— Скотт? — шепчет она, но Скотт на неё не смотрит. Скотт пристально смотрит на пруд, над которым лёгкий туман, тончайшая дымка, начинает подниматься в свете восходящей луны. Лизи позволяет себе бросить один короткий взгляд на пруд, после чего сосредоточивает всё внимание на муже. Она выучила урок, знает, к чему ведёт слишком долгое лицезрение пруда. Во всяком случае, надеется, что выучила. — Скотт, пора возвращаться домой.
Ничего. Никакой реакции. Она помнит, как не соглашалась с ним, говоря, что он не безумец, что написание историй не превратило его в безумца, на что Скотт ей отвечал: «Я надеюсь, ты останешься везунчиком, маленькая Лизи». Но она не осталась, не так ли? Теперь она знает гораздо больше. Полу Лэндону ударила в голову дурная кровь, и он окончил свою жизнь прикованным к столбу в подвале уединённого фермерского дома. Его младший брат женился и сделал блестящую литературную карьеру, но пришла пора платить по счёту.
Вот он, растениеподобный кататоник, думает Лизи и дрожит всем телом.
— Скотт? — вновь шепчет она, наклонившись к самому уху. Берёт обе его руки в свои. Они холодные и гладкие, восковые и расслабленные. — Скотт, если ты здесь и хочешь вернуться домой, пожми мне руки.
Очень долго нет ничего, кроме дикого смеха хохотунов в чаще леса и, где-то ближе, почти женского крика птицы. А потом Лизи чувствует, может, только думает, что чувствует, едва заметное шевеление его рук.
Она пытается решить, что ей делать дальше, но уверена лишь в том, чего делать не следует: нельзя дать ночи накрыть их тёмным покрывалом, нельзя позволить серебристому лунному свету зачаровать её, пусть он и погружает их обоих в тени, поднимающиеся снизу. Это место — ловушка. Она уверена: для любого, кто остаётся у пруда достаточно долго, уйти отсюда невозможно. Она понимает: если смотреть на пруд какое-то время, то увидишь всё, что хочется увидеть. Потерянных возлюбленных, умерших детей, упущенные шансы… всё.
Что самое удивительное в этом месте? Тот факт, что на скамьях не так уж много людей. Они не сидят плечом к плечу, как зрители на финальном матче долбаного первенства мира по футболу.
Лизи улавливает движение краем глаза и смотрит на тропу, которая ведёт от берега к ступеням. Видит дородного мужчину в белых штанах и широкой белой рубашке, расстёгнутой до пупка. По левой стороне лица тянется рваная рана. Тронутые сединой волосы стоят на затылке дыбом. Голова как-то странно сплющена. Он оглядывается, потом ступает с тропы на песок.
Рядом с ней с огромным усилием Скотт произносит: «Автомобильная авария».
Сердце Лизи выпрыгивает из груди, но ей удаётся сдержать себя: вместо того чтобы резко повернуть голову или слишком сильно сжать руки Скотта (чуть-чуть она их сжимает, всё так), она спрашивает, пытаясь недопустить в голос избытка эмоций: «Откуда ты знаешь?»
Скотт не отвечает. А дородный господин в расстёгнутой на груди рубашке бросает ещё один пренебрежительный взгляд на молчащих людей, которые сидят на каменных скамьях, и прямиком идёт в пруд. Серебристые щупальца лунного тумана поднимаются вокруг него, и Лизи снова приходится прилагать усилия, чтобы отвести взгляд.
- Скотт, откуда ты знаешь?
Он пожимает плечами. Плечи его, похоже, весят тысячу фунтов (и это как минимум, если судить по тому, что она видит), но он ими пожимает.
- Полагаю, телепатия.
- Ему станет лучше?
Долгая пауза. И когда она уже думает, что ответа не будет, Скотт отвечает:
- Возможно… он… там глубоко… в пруду. — Скотт касается собственной головы, указывая, как думает Лизи, на какое-то нарушение мозговой деятельности. — Иногда они заходят… слишком далеко.
- А потом поднимаются сюда и сидят здесь? Завёрнутые в эти простыни?
Скотт не отвечает. И она боится потерять то малое, что уже приобрела. Ей не требуется ничьих объяснений, чтобы понять, как легко это может произойти. Каждый нерв её тела об этом знает.
- Скотт, я думаю, ты хочешь вернуться. Я думаю, именно поэтому ты так отчаянно боролся весь декабрь. И я думаю, именно поэтому ты перенёс сюда этот жёлтый афган. Его трудно не заметить даже в таком сумраке.
Он смотрит на неё, словно видит в первый раз, потом улыбается одними губами.
— Ты всегда… спасаешь меня, Лизи, — говорит он.
— Я не знаю, о чём ты…
— Нашвилл. Я уходил… — С каждым словом в нём, похоже, прибавляется живости. И впервые она позволяет себе надеяться на лучшее. — Я затерялся в темноте, и ты меня нашла. Мне было жарко… так жарко… и ты дала мне льда. Ты помнишь?
Она помнит ту, другую, Лизу (Я пролила половину грёбаной «кокы», пока добралась сюда) и как дрожь Скотта прекратилась, когда кусочек льда попал на его окровавленный язык. Она помнит, как вода цвета «коки» капала с его бровей.
— Разумеется, помню. А теперь давай выбираться отсюда. Он качает головой, медленно, но решительно.
— Это слишком трудно. Ты иди, Лизи.
— Я что, должна уйти без тебя? — Она яростно моргает, только тут осознав, что уже плачет.
— Это несложно… сделай всё, как в тот раз, в Нью-Хэмпшире, — говорит он ровным голосом, но очень медленно, словно каждое слово обладает немалым весом, и он сознательно не хочет её понимать. Она в этом практически уверена. — Закрой глаза… сосредоточься на том месте, откуда пришла… визуализируй его… и ты туда вернёшься.