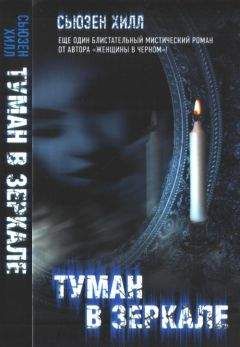Я стал мысленно возвращаться к местам, которые посетил за минувшие годы, непосредственно связанным с Вейном, — деревушкам, городкам, древним достопримечательностям, к упоминаниям, которые я очень редко слышал о нем. Нет, никаких неприятностей, как выразился Бимиш. Больше всего было странных пробелов, складывалось смутное впечатление, что Конрад Вейн не тот человек, которого вспоминают, если его вообще помнят, с какими бы то ни было особыми чувствами, или же тот, кого считают достойным уважения.
— Нет, — сказал я наконец. — Ничего.
— Однако же леопард не меняет пятен.
— Возможно, вы намекаете на какие-то темные дела? Вейн совершил преступление?
На миг глаза его сузились, и он переместил свое толстое низенькое тело на стуле. Я думал, что он собирается мне что-то сообщить, некое откровение, но нет; он лишь снова повторил:
— Оставьте это.
Я улыбнулся:
— У меня уже есть начальные планы. Я намереваюсь посетить бывшую школу Вейна. Полагаю, в библиотеке имеются какие-то бумаги, письма и прочие подобные документы и все его путевые заметки в рукописях. Я собираюсь потратить время и свериться с ними.
— Вы неглупый человек, мистер Монмут, не импульсивный юнец с горячей головой. Почему вы так ведете себя?
— Вы, похоже, хотите оскорбить гостя. Вы были гостеприимны, мистер Бимиш, но…
— Но вы намерены проступить по-своему и отправиться в ад.
— Да бросьте вы, черт возьми!
— То, о чем я говорю, Монмут, — это зло, порок, вещи, которые лучше всего оставить сокрытыми, не тревожить их. Всякий, кого коснется Вейн, пострадает.
— Мистер Бимиш, этот человек мертв.
— О да.
— Тогда о чем мы говорим?
— Что ж, задавайте и дальше свои вопросы.
На какую-то долю секунды, когда я смотрел ему в лицо, слушал его мягкий, ласковый голос в полутемной комнате, меня охватил пугающий леденящий ужас. Он подступил как осколок льда, вонзившийся в сердце, и теперь мне известно, что на самом деле он никогда не оставлял меня и не оставит до конца моих дней. Мне известно теперь, что скрывали от меня таинственные и неясные слова Бимиша, — в основе их была некая темная истина, некая история человеческого порока и страдания. Имел ли он к этому какое-либо отношение, был ли он действительно знаком с Вейном или хотя бы просто встречался с ним, — этого я не знаю.
Возможно, я мог бы серьезнее отнестись к его словам и оставить Конрада Вейна в прошлом, но уверен, что на меня повлияло не простое упрямство и не страстное желание. Как верно отметил Бимиш, я не был импульсивным юнцом, я был спокойным, вдумчивым, здравомыслящим мужчиной средних лет и хотел размеренной и практичной тихой жизни. И все же чем больше он говорил о Вейне, тем сильнее это завораживало меня.
Впрочем, вспышка сильнейшего страха, которую я ощутил, была мимолетной, и когда она прошла, я посмотрел на посуду на столе, почувствовал приятную тяжесть в желудке, набитом теплой домашней пищей — пирогами и картошкой, пудингом и элем, — и реальность, простота, будничность этих вещей изгнала в царство грез любые намеки на другие, более темные и зловещие материи.
Мысль о пирогах с бараниной Снекера и эле заставила меня пропустить мимо ушей предупреждения мистера Бимиша и, боле того, посмеяться над ними.
Я поблагодарил его за обед, распрощался и ушел. И вновь Шоува нигде не было видно, а магазин был темен и пуст.
Я поспешно вышел и спустился по ступеням на булыжники Крэб-Пэсседж, теперь уже скользкие от дождя.
Но я не мог отделаться от мистера Бимиша. Его образ, руки, удовлетворенно сложенные на животе, сверкающие маленькие глазки оставалась со мной весь тот день, а ночью он, чуть улыбаясь, появился в моих беспокойных снах. Я лежал, бодрствуя, в темные предутренние часы, остро осознавая, что он рядом.
Это было примерно перед тем, как я вспомнил, что больше не видел мальчика.
Но предупреждения Бимиша не нашли во мне отклика, я пренебрег ими с раздражением, хотя время от времени вновь мысленно повторял слова «оставьте это» и задавался вопросом, что за ними стоит.
Я никогда не был упрямцем, молодым или старым, но я был тверд и решителен. Всю мою жизнь, сколько я себя помнил, я делал то, что намеревался сделать, сам строил свои планы, следовал им до конца и ни перед кем не отчитывался. Кроме того, как я дал понять Бимишу, а что мне еще оставалось делать? Честно признаться, я до сих пор не освоился в Лондоне, я был одинок — ни дома, ни семьи, ни друзей. Я привык к этому и не чувствовал себя чрезмерно обеспокоенным или несчастным, но я нуждался в цели, а исследование жизни Вейна давало мне ее на ближайшее время. Откажись я от этого, и у меня возникло бы беспокойное ощущение того, что повсюду вокруг лежит пустота, бессмысленное, бесцельное существование, в которое я мог бы угодить, как в западню. До сих пор у меня всегда была цель, пусть даже самая простая — следующее место, в которое надо направиться. Я боялся утратить цель и, утратив ее, утратить заодно и уверенность в себе.
Ничего этого я не продумывал так логически и ясно, как сформулировал теперь, впоследствии; на самом деле я лишь бегло обвел все взглядом и испуганно оглянулся через плечо, прежде чем сделать крутой вираж.
Кроме того, я начинал чувствовать себя в «Перекрещенных ключах» все менее уютно, да и никогда, разумеется, и не чувствовал себя там особо желанным гостем; это было лишь временное убежище, вдобавок весьма далекое от того, чтобы быть удобным. Вечерами, если я не уходил на прогулку из-за усталости или скверной погоды, я читал, лежа на кровати, или сидел в одиночестве, игнорируемый всеми, внизу в баре. В других лондонских гостиницах и трактирах я вступал в разговоры, заводил случайных знакомых, с которыми мог поболтать о пустяках. Здесь ничего такого не случалось. Это было негостеприимное место, завсегдатаи — неприветливые и подозрительные, замкнутые, занятые собственными делами. Оно вполне удачно послужило своей цели, но я должен был оставить его без сожалений и без оглядки. И хотя я больше ни разу не видел женщину в комнате за занавесом из бусинок, мысль о том, что я могу увидеть ее еще раз, вызывала у меня тревогу.
Я планировал подыскать жилье либо в Сити — возможно, близ зданий Суда, или же в окрестностях Челси, ибо я полюбил Темзу, и мне было бы приятно жить на ее берегах и узнавать ее все лучше и лучше во всех проявлениях.
Но сначала я должен был пойти на вторую встречу.
Я прожил в Лондоне почти три недели и все больше привыкал к нему. Дерзну сказать, я уже считал себя светским и воспитанным джентльменом, но, честно говоря, я по-прежнему оставался странником и пришельцем во всем, кроме поверхностного слоя недавних навыков, человеком, всю свою взрослую жизнь путешествовавшим по диким, дальним и первозданным краям и жившим в городах, имевших с этим городом весьма мало общего, в которых были совсем иные манеры, обычаи и люди.