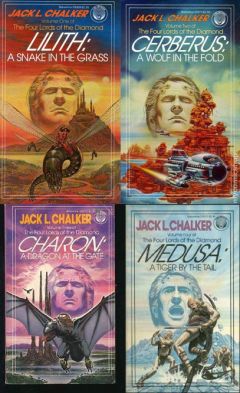– Na und, schaffen Sie rechtzeitig? – Ну как, закончите вовремя? – спрашивает Мхов.
Он знает, что вопрос этот лишний, немцы сделают работу день в день по договору, но так, для порядка, почему бы не поинтересоваться?
Немцы подхватывают игру.
– Ja, Ja, natuerlich, Herr Boss, – Да, да, конечно, босс, – важно отвечает Фридрих и смотрит на Карл-Хайнца.
Тот, наморщив лоб, подтверждает:
– Ja, Ja, wieso anders, selbstverstaendlich! – Да, да, а то как же!
С минуту они молчат, сосредоточенно хлебая пиво.
Потом Мхов говорит:
– Hab mal oueres Gelaechter gehoehrt. Neuer Witz? – Я слышал, смеялись вы тут. Новый анекдот?
– Nein, – Нет, – отвечает Фридрих. – Karl-Heinz errinerte sich an der Geschichte seines Lebens. Eine ganze Wucht von diesen. Jede faellst vor Lachen um! – Карл-Хайнц истории из жизни вспоминал. У него их до хрена. И все – обхохочешься.
– Doch, erzahl eines, – Ну, расскажи что-нибудь, – просит Мхов.
Карл-Хайнц откупоривает ещё три банки, раздаёт пиво, закуривает. И начинает:
– Es war im vorvorigen Jahr, wenn Ich als Feuerwerker bei europeischen Gastspielreise von Rammstein beigeschlenderte. – Было это в позапрошлом году, я тогда пырял пиротехником в европейском турне группы «Раммштайн».
– Die jenige, die Herr Kanzler Schmachten der Nation genannt, – Это про которых канцлер сказал, что они – позор нации, – уточняет Фридрих.
– Na und, – Ну да, – морщится Карл-Хайнц. – Selbst ist er beigeschlafenen Schmachten. Sweinehund. Na und. Gewoenliche Gastspielreise. Wie immer ist es ein und dasselbe. In jedem Ort von ortsansaessigen Maedchen kann man sich ihrer nicht erwehren. Benommend von solcher Dresche legen sie sich nach Konzert aufstapelnd. Herr Direktor der besten fuer Knaben aus Gruppe auswaehlt, den Rest uns wirft hinunter – den Beleuchtern, den Feuerwerkern, den Monteuren, in kurzen Worten – den unermuedlichen Arbeitern. Das fehlte gerade fuer alles. – Сам он ёбаный позор. Собачья свинья. Ну вот. Турне как турне. Всегда одно и то же. Куда не приедем, от местных девок отбоя нет. Охренеют от такого молотилова и после концерта штабелями ложатся. Ну, директор кого получше для ребят из группы отбирает, а остальных нам сбрасывает – осветителям, пиротехникам, монтировщикам, короче, работягам. Хватало на всех.
– Pass auf, – Погоди, – перебивает его Фридрих, – Wuerste sind bereit. – колбаски готовы.
Он ловко подхватывает с жаровни три шпажки и Мхов получает свою долю. Тонкая шкурка лопается на зубах, ароматный, горячий сок попадает на язык, течёт по подбородку. Мхов заливает пожар пивом.
Карл-Хайнц, между тем, продолжает с набитым ртом:
– Das war in Tschechai. Kommen nach Prag an. Alles laeuft wie immer. Durchgearbeitet, Maedchen teilte, rollen wir zusammen einer Bierstube an. Mir wurde eine dunkelhahrige, braune zutei. Na und, sitzen wir, trinken, quetschen. Und meine sagte mir: «Weisst Du, ich bin Zigeunerin!». Ich sagte: «Es ist mir ganz egal. Fuer mich bist Du eine ja prima Maedchen mit grossem Gesaess». Und greife ihr unter dem Rock. Und bestosst meine Fresse! Ich sage: «Was machst Du, Hure, bist betrunken?» Und sie: «Weisst Du was, gemeiner Kerl, sie – Deutschen haben meine Urgrossmutter im Getto zu Tode geschindet». Da sieh mal einer an! Aber moechtete den Abend retten. Sage: «Jana! – sie heisste Jana, – Jana! Wozu ist es? Ich mag keine Nazzis auch…» Sie rueffelt, schreit aus vollem Halse pro ganze Bierstube: «Alle Deutsche sind in Graebe einzuschlagen!» Die Toene verstummten, alle sich kehren, und unseren Kerlen fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Und ich versuche ihr zu beruhigen: «Hoer zu, bitte. Doch waren auch guten Deutschen…» Sie kreischt dann: «Guten Deutschen – in guten Graebe!!!» Und mit diesen Worten springt sie auf von Banken, steht in Krebspose, hebt den Rock hoch, zieht die Slips ein und scheisst gerade auf meinen Knie! Und so wohlschmekend, als waehrend ganzes Lebens gespart hatte! Und endlich einen geeigneten Fall erwartet hatte!!! – Дело было в Чехии. Приезжаем в Прагу. Всё как всегда. Отработали, поделили девок, подались с ними в пивную. Мне досталась тёмненькая такая, смугляночка. Ну, сидим с ними, пьём, лапаемся. Тут моя мне и говорит: «А ты знаешь, что я цыганка?» Я говорю: «Да мне это по барабану. Для меня ты просто классная, жопастая тёлка». И лезу ей под юбку. А она мне по морде хрясь! Я говорю: «Ты чего, сучка, нажралась?» А она: «А ты знаешь, сволочь, что вы, немцы, мою прабабку в гетто заморили?» Вон, думаю, в чём дело! Но пытаюсь спасти вечер. Говорю: «Яна! – её Яной звали, – Яна! Ну зачем ты так? Я тоже не люблю нацистов…» Она в разнос, орёт на всю пивнушку: «Всех немцев в гробы!» Вокруг притихли, оборачиваются, у наших ребят аж глаза повылазили. А я всё её успокаиваю: «Перестань, пожалуйста. Ведь и тогда были хорошие немцы…» А она как завизжит: «Хороших немцев – в хорошие гробы!!!» И с этими словами вскакивает с лавки, встаёт раком, задирает юбку, спускает трусы и срёт мне прямо на колени! Да так смачно, как будто всю жизнь копила! И вот дождалась, наконец, подходящего случая!!!
Тут Мхов чуть не давится колбасой, потому что Фридрих вдруг дико вопит у него над ухом – «oohhaahhuu!» – «ооаауу!» – и начинает хохотать безудержно, громко, захлёбываясь и подвывая. Рассказчик скалится, довольный произведённым эффектом, а Мхов, тоже вроде начавший по инерции смеяться, в какой-то момент понимает, что ему не смешно. Более того, ему противно. Он резко встает, и тут французский коньяк, немецкое пиво и немецкая колбаса московской выделки, тяжкой массой болтающиеся у него в желудке, бросаются ему прямо в горло. Мхова выворачивает наизнанку. Его густо рвёт на землю, он чувствует, что вместе с содержимым желудка из него выходит вся отрава сегодняшнего вечера. «И это хорошо», – с облегчением думает он.
Балансируя на грани забытья, он добирается до дверей дома, поднимается в свою спальню-кабинет на четвёртом этаже, не раздеваясь, бросается на широкий кожаный диван и в то же мгновенье засыпает. Ему снится огромная сверкающая рулетка, крутящаяся в небе, величиной в полнеба. По кругу, подскакивая, мчится его голова, даже когда она ещё была головой ребенка, постоянно думала о происходящем. Главной его заботой было вести себя так, чтобы никто даже не заподозрил, что внутри него идёт постоянная война против «нельзя» и «надо». «Нельзя врать, потому что родители всё равно узнают правду!» – это отец. «Надо есть хлеб с маслом, потому что так делает Гагарин!» – это мать.
«Нельзя» и «надо» были ключевыми словами в системе воспитания, придуманной для него родителями. Тем самым они, сами того не подозревая, воспитывали в нём героя. Это понятно: ни один герой на свете не делает того, чего он хочет. Наоборот, осознание необходимости проявления героизма обязательно проходит через «нельзя» и упирается в «надо». Так, любимый герой его детства Прометей сначала осознал, что ему нельзя быть безучастным к страданиям людей, а потом понял, что ему надо преступить закон и пожертвовать собой для прекращения этих страданий.
Много лет спустя, он с досадой наблюдал за словесными баталиями вокруг несостоявшегося, к его глубокому сожалению, героя – генерала Аугусто Пиночета. Когда того задержали в Англии и устроили долгую тёрку насчёт того, выдавать или нет чилийского реформатора-кровопускателя испанскому суду, то в Москве, по ТВ и в прессе, разного рода околополитические публицисты, разделившись на два лагеря, яростно заспорили друг с другом. Одни говорили, что Пиночета необходимо судить. Другие доказывали, что у Пиночета нужно учиться.