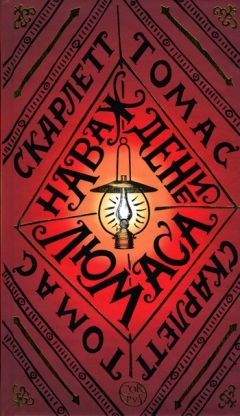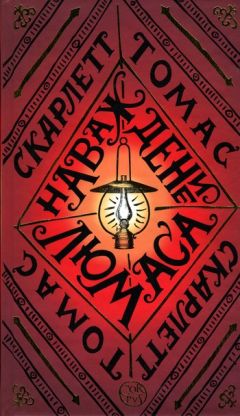Укладываясь в постель, с пересохшим горлом и «Наваждением» под второй, ничьей подушкой, я размышляла о том, существуют на свете проклятия или нет.
Иногда я просыпаюсь с таким глубоким чувством разочарования, что едва могу дышать. Обычно никаких явных причин для этого нет, и я списываю все на странную комбинацию несчастливого детства и страшных снов (эти две вещи вообще отлично ладят друг с другом). И в большинстве случаев мне довольно быстро удается от этого ощущения избавиться. В конце концов, не так уж и много у меня причин для разочарования. Ну да, после университета мне так и не удалось устроиться на работу в издательство, но кому какое дело? Это было десять лет назад, и к тому же меня вполне устраивает колонка в журнале. И мне плевать на то, что мать убежала с компанией придурков, отец живет в хостеле где-то на севере, а сестра давно перестала присылать мне рождественские открытки. Плевать, что друзья, с которыми я раньше снимала дом, попереженились и оставили меня одну-одинешеньку. Мне нравится быть одной — это-то уж точно не проблема — просто мне стало не по карману жить одной в огромном доме в Хэкни, где пустые комнаты клубятся, будто маленькие вселенные. То, что я перебралась сюда, означает, что я вполне могу почитывать в одиночестве свои книги, так что едва ли мне есть из-за чего грустить или испытывать разочарование.
Иногда мне нравится представлять себе, будто я живу с призраками. Не с призраками из собственного прошлого — в таких призраков я не верю, — а с легкими обрывками мыслей и книг, которые висят в воздухе, словно шелковые марионетки. Порой мне кажется, что и мои мысли тоже плавают вокруг, но эти обычно надолго не задерживаются. Они похожи на мух-однодневок: рождаются, большие и сверкающие, летают туда-сюда, жужжа, как сумасшедшие, а всего какие-то сутки спустя берут и замертво падают на пол. Впрочем, не думаю, что мне хоть раз удалось придумать что-нибудь оригинальное, так что и не жалко. Обычно я обнаруживаю, что о том же самом до меня уже успел подумать Деррида, и это вроде как большая наглость — так говорить, но, с другой стороны, он не такой уж и мудреный — просто писал очень путанно. А теперь и он тоже — призрак. Или, может, всегда им был — я его не видела, так как же мне быть уверенной в том, что он существовал в действительности? Некоторые из самых доброжелательных ко мне — это духи моих любимых авторов научных трудов девятнадцатого века. Большинство из них, конечно же, ошибались, но кому какое дело? История-то еще не закончилась. Мы все ошибаемся.
Иногда я провожу свои собственные мысленные эксперименты, например, такие: что, если на самом деле все без исключения были правы? Аристотель и Платон, Давид и Голиаф, Гоббс и Локк, Гитлер и Ганди, Том и Джерри. Может, в этом есть какой-то смысл? Но потом я вспоминаю о своей матери и думаю, что нет, правы не все. Если перефразировать физика Вольфганга Паули, она даже и неправа не была. Может быть, вот на какой стадии развития пребывает наше общество теперь, в начале двадцать первого века: мы более чем неправы. Люди девятнадцатого столетия были неправы в общих чертах, но мы умудряемся их переплюнуть. У нас теперь есть принцип неопределенности и теорема о неполноте, и философы, которые утверждают, что мир превратился в симулякр — копию без оригинала. Мы живем в мире, в котором не может быть ничего реального; мире бесконечных замкнутых систем и частиц, которые могли бы делать все, что ни пожелаешь (но, вероятнее всего, не делают).
Может быть, мы все такие же, как моя мать. Я не очень-то люблю думать о ней или о своем детстве, но могу быстро описать в общих чертах. Мы жили в спальном районе, где чтение книг считалось отвратительнейшим сочетанием лени и пижонства, и, насколько я знаю, из всего района в библиотеку были записаны только мы с мамой. В то время как остальные дети занимались сексом друг с другом (начиная с восьмилетнего возраста), а взрослые пили, играли в карты, держали злых собак и облезлых кошек и придумывали, как бы разбогатеть и прославиться, моя мать частенько брала меня с собой в библиотеку и оставляла в детской секции, а сама пыталась постичь смысл жизни с помощью книг по астрологии, исцелении верой и телепатии. Если бы не она, я бы, наверное, так никогда и не узнала о существовании библиотек. Это единственная хорошая вещь, которую она для меня сделала. По вечерам она сидела в гостиной в своем розовом халате и ждала появления инопланетян, а отец тем временем брал меня с собой в парк и там фотографировал, как я таскаю туда-сюда алюминиевые скамейки или рисую граффити на стенах, — эти снимки он потом отправлял в местную газету в качестве доказательства того, что муниципалитет терпит поражение в войне с хулиганством. Отец, который никогда не мог окончательно протрезветь и в поддатом состоянии любил покупать мне машинки и наклейки с футболистами, считал, что все наши проблемы — результат правительственного заговора. А мать вообще видела заговор повсюду. Они учили меня, что никому и никогда нельзя верить. Но потом оказалось, что и они тоже мне врали.
Впрочем, мне нравилось играть с другими детьми, с риском для жизни гонять по шоссе, воровать велосипеды у богатых детей, поджигать разные предметы и за пятьдесят центов позволять старшим мальчишкам себя пощупать. Кстати, я на этом неплохо заработала и даже смогла накопить на собственный велосипед, который не нужно было никому возвращать или сбрасывать в реку. После этого я завязала с сексом и стала каждый день ездить в библиотеку. Вот тогда-то у меня и появилась привычка запойно читать все, что ни попадется под руку. Неудивительно: ведь я каждый день часами просиживала в окружении такого количества книг, которое и за всю жизнь не прочитать. Начинаешь читать одну, а в голову вдруг приходит, что ведь с таким же успехом можно было приняться за другую. И вот к концу дня обнаруживаешь, что пролистала от начала до конца две, начала четыре и посмотрела, чем кончаются еще штук семь. Так можно перелопатить чуть ли не всю библиотеку — если не дочитывать до конца ни одной книги. Но вот романы я все-таки дочитывала. Хотя до Толстого так и не добралась — я была не из таких. Я читала в основном такие взрослые книги, которые детям не выдают.
В средней школе я ощущала на себе сочувственные взгляды — в школьной форме из секонд-хенда, непричесанная… Зато (спасибо, мама, спасибо, папа) мне не дозволялось посещать внеклассные мероприятия, и к тому же я не верила ничему из того, что нам преподавали, поэтому быстро попала в число «трудных» детей. А еще я лет с тринадцати должна была сама себе стирать, но не очень-то заморачивалась. Другим детям не было никакого дела до того, что у меня несвежий воротник, а к слишком короткой юбке уже несколько недель не прикасался утюг. Но учителя время от времени отзывали меня в сторонку и говорили что-нибудь вроде: «Может, ты все-таки напомнишь своей маме о том, что школьную форму нужно…» Моей маме?! Теоретически с ней можно выйти на связь, но только при условии, что у вас есть портативная радиостанция и вы сумеете убедительно изобразить голос из космоса.