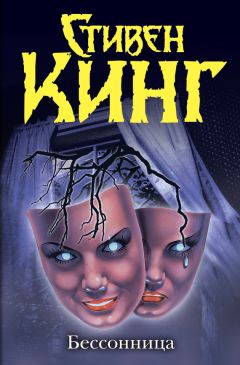То же самое. Все то же самое. Ральф как бы снова вернулся в начало марта. Хмурый пасмурный день, ближе к вечеру. По окну палаты № 317 стучит снег с дождем. Ральф сидит в кресле для посетителей с книгой в руках. «Взлет и падение Третьего рейха» Ширера. Он сидит здесь с раннего утра, но так и не прочел ни строчки. Даже не открывал книгу. Он сидит и не хочет вставать, даже чтобы сходить в туалет, потому что часы смерти уже скоро должны были остановиться. Каждое их «тик-так» было как пытка, а паузы между «тик-таками» были длиной в целую жизнь; женщина, с которой он прожил всю жизнь, уже готовилась сесть на поезд, и он хотел быть на платформе, чтобы ее проводить и помахать вслед поезду. У него есть единственный шанс, чтобы сделать все правильно. Другого шанса уже не будет.
Ему было слышно, как за окном шуршит дождь со снегом, потому что в палате было совсем тихо – оборудование жизнеобеспечения отключили. Ральф сдался в последнюю неделю февраля, Каролина, которая никогда не сдавалась, боролась немного дольше. Боролась до последнего. Но в тяжелом десятираундовом поединке Каролина Робертс против рака мозга победителем все-таки вышел рак, тяжеловес-чемпион всех времен и народов. Но почему? Почему?
Он сидел в кресле для посетителей, наблюдал и ждал, а ее дыхание становилось все более и более громким в глухой тишине: длинный выдох, похожий на вздох, плоская неподвижная грудь, растущая уверенность в том, что последний вздох был и вправду последним, что часы остановились, поезд прибыл на станцию, чтобы забрать единственного пассажира… а потом – еще один бессознательный глубокий вдох, когда она вновь набирает в легкие вдруг ставший враждебным воздух, она больше не дышит в общепринятом смысле слова, лишь рефлективно перебирается от одного вдоха до другого, как пьяный, который, держась за стенку, идет к двери своей квартиры по длинному коридору – от одной двери к другой.
Тук-тук-тук, изморось стучит невидимыми пальцами по стеклу, а серый и грязный мартовский день превращается в серый и грязный мартовский вечер. Каролина продолжает сражаться, идет последний раунд. Разумеется, она уже мало что понимает и действует только на автомате; у нее больше нет мозга – настоящего, живого мозга. Вместо него появился мутант – глупая черно-серая масса, которая не может ни думать, ни чувствовать, только жрать, жрать и жрать, до тех пор, пока не сожрет себя самое.
Тук-тук-тук, и он видит, что Т-образный дыхательный аппарат у нее в носу съехал набок. Он ждет, пока она сделает очередной трудный вдох, и потом, когда она вдохнула, наклоняется и поправляет пластиковую трубочку. Тогда на пальцах осталась слизь, он хорошо это помнит, и он вытер ее салфеткой из коробки, стоявшей на тумбочке. Потом откинулся на спинку кресла в ожидании следующего вдоха, чтобы убедиться, что аппарат не выскочит, но следующего вдоха уже не было, и он понял, что призрачное тиканье часов смерти, которое с прошлого лета не прекращалось ни на секунду, теперь затихло.
Он помнил, как ждал, а минуты скользили мимо – одна, потом три, потом шесть, – чего-то ждал и не мог поверить, что все счастливые годы и счастливые времена (несчастливые просто не в счет) закончились вот так: банально и скучно. Радио, настроенное на какую-то местную развлекательную станцию, тихо играло в углу, и он слушал «Ярмарку в Скарборо» Саймона и Гарфункела. Песня закончилась. Уэйн Ньютон запел «Данке Шен». И эта песня закончилась тоже. Дальше был прогноз погоды, но прежде чем ди-джей закончил говорить о том, какая будет погода в первый день одиночества Ральфа Робертса – какая-то чушь про облачно, с прояснениями, похолодание и северо-западный ветер, – Ральф наконец осознал: часы больше не тикают, поезд пришел, боксерский матч закончился. Все метафоры исчезли, осталась лишь женщина, которая больше не дышит. И Ральф заплакал. Потом встал, прошел в угол и выключил радио, глотая слезы. Он вспомнил то лето, когда они брали уроки рисования пальцами, и ту ночь, когда они рисовали пальцами на обнаженных телах друг друга. От этого воспоминания он расплакался еще пуще. Он подошел к окну и прижался головой к холодному стеклу. Он очень долго стоял так и плакал. Тогда ему хотелось только одного – умереть тоже. Сиделка услышала, как он плачет, и вошла в палату. Попыталась проверить пульс у Каролины. Ральф обозвал ее дурой. Она подошла к нему, и ему вдруг показалось, что сейчас она будет проверять пульс и у него тоже. Но вместо этого она обняла его. Она…
[Ральф? Ральф, с тобой все в порядке?]
Он посмотрел на Луизу, открыл было рот, чтобы сказать ей, что с ним все нормально, но потом вспомнил, что в таком состоянии, когда они читают мысли друг друга, ему будет трудно скрыть от нее правду.
[Мне просто грустно. Так много воспоминаний. Нехороших воспоминаний.]
[Я понимаю… но посмотри вниз, Ральф. Посмотри на пол.]
Он взглянул вниз, и его глаза широко распахнулись от удивления. Пол был покрыт множеством разноцветных следов. Некоторые были совсем-совсем свежими, но большинство уже поблекли. Два следа сразу же выделялись на фоне остальных – как бриллианты среди горы стекляшек. Золотисто-зеленые следы с маленькими красноватыми пятнышками.
[Это следы тех, кого мы ищем, Ральф?]
[Да, доктора уже здесь.]
Ральф взял Луизу за руку – ее рука была очень холодной – и медленно повел ее по коридору.
1Они не успели пройти и десяти шагов, как вдруг случилось что-то непонятное и даже слегка пугающее. На мгновение мир вокруг них взорвался ослепительным белым светом. Двери комнат, расположенных вдоль коридора, едва различимого в этой яркой белой дымке, выросли до размеров самолетных ангаров. Сам коридор как будто удлинился и одновременно стал выше. Ральф почувствовал, что его сердце уходит в пятки, как часто случалось в детстве, когда он катался на американских горках «Пыльный Дьявол» на пляже Старый Сад. Он услышал, как Луиза застонала и стиснула его руку.
Белый туман продержался всего секунду, а когда цвета снова вернулись, они стали свежее и ярче. Перспектива тоже вернулась в норму, но предметы сделались как-то четче. Ауры остались на месте, только теперь они выглядели тоньше и бледнее – легкие пастельные ореолы вместо кричащего буйства красок. Ральф вдруг осознал, что может разглядеть каждую трещинку на стене слева… и даже увидеть трубы, провода и изоляцию внутри стен, если ему захочется; все, что для этого нужно, – просто смотреть.
О Боже, подумал он. Это все происходит на самом деле? По-настоящему?!
Звуки были везде: тихий звон колокольчика, подтекающий туалет, приглушенный смех. Звуки, которые человек всегда воспринимает как часть повседневной жизни и перестает их слышать. Всегда – но не теперь. Не здесь. Как и видимые предметы, звуки казались непривычными для слуха. Они были исполнены странной ласкающей чувственности – как шелест шелка по стали. Нет, даже не так: как набегающие друг на друга чешуйки из шелка и стали.