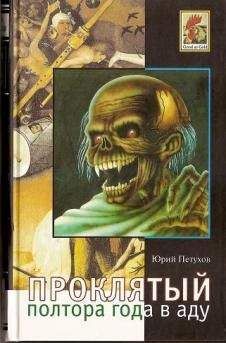— Ах, ты сучара, так тебя через так! Не успеешь! Не успеешь, гад!
А в мозг долотом: «Успею! Успею! Убей их! Опять убей!!!
Из меня вся злость, вся наглость, моя и нахрапистость, все силенки повылетали, аж крылья железные многометровые обвисли и ржаво как-то заскрипели. Когти гнуться начали, будто из пластилина… А кокон дрожит, дергается, набухает… и чего-то там живое внутри просвечивается, чего-то шевелится. Собрал я остатки сил, да снова клювом как долбану! И разорвал… А может, этот гнусный бурдюк сам прорвался… И прихватило меня. Да так прихватило — гонор весь паром вышел, глотка пересохла, в глазах кровавая рябь пошла. Я и понял-то не сразу, думал, померещилось! Из кокона прямо на меня вышла та самая, последняя, в красном. Она и сейчас была вся в красном, то ли в плаще, то ли в пальто… Смотрит, а губы стиснуты — и с них капельки стекают вниз, кровавые капельки. А потом она разом пальтишко сбросила, отшвырнула — и застыла, вся белая, мертвая, в пятнах трупных, в черной крови спекшейся. И шея у нее вся черная, вся в синяках и пятнах от рук моих, ведь это ж я ее придавил, я! И стоит она — мертвая, слабая, белая, немощная. А я напротив — сам черт с крыльями, вельзевул, чудовище всесильное и злобное. Но такую она надо мной, над зверодьяволом, власть возымела, что ни лапы поднять, ни намертво сжатую челюсть расцепить. Губы у нее медленно разжались, будто склеенные были, слипшиеся, и таким голосом она просипела, что был бы я живым, во второй раз бы сдох. Просипела со свистом и шипом:
— Теперь моя пора, милый!
Надо было сразу бежать. Но ноги зацепенели, копыта раздвоенные с когтями на кончиках в скалу под слоем жижи и крови вцепились, крылья и вовсе обвисли. Жуть подкатила к сердцу. Тут я сдуру, не помня себя, и завопил:
— Изыди! Изыди, нечистая сила! Тебе тут не положено!
Даже попробовал перекрестить ее, чтоб исчезла. Только лапу таким огнем ожгло, такой судорогой скрутило — сразу усек, мне теперь, черту-дьяволу поганому, креститься не полагается. Но все равно ору ором:
— Уйди, тварь! Ты ж безгрешная, сука, тебе ж в раю надо быть! Вали отсюда, стерва, вали!
От слов моих она захохотала как безумная, затряслась. И вдруг начал у нее живот расти, набухать. На глазах глобусом надулся… и лопнул. Вывалился прямо из брюха черный, сморщенный ребенок — такой страшненький, слизистый, с искривленными тоненькими ручонками и ножонками, непомерной головой. Упал он, ударился оземь, только голова глухо стукнула. И замер он на миг. А потом с диким визгом я такого отродясь не слыхал — вскочил мячиком, будто пружиной его подбросило, и ручонками мертвой в горло вцепился с такой силищей, что у той запавшие глаза на лоб полезли из орбит.
— Нет! Нет! — истерически вопил этот ребенок. — Ей в рай нельзя! Ей тут самое место! Ей здесь во веки веков червей кормить!
И опять мертвая просипела, но теперь еле-еле просипела, чуть слышно было:
— Я ж мать твоя! Прости! Нельзя же…
— Не мать! Ты убийца моя! Ты меня убила!!! — орал как резаный этот ребенок. — Не будет прощения, не будет!
— Отпусти…
А тот ее уже не просто душил, а еще и в лицо зубами вцепился, да начал грызть, кусать. У меня все помутилось в голове: ведь ребенок, зародыш, рахитик, а кричит, душит, кусает, будто чертенок какой-то! И только я так подумал, он ее грызть перестал, ручонки разжал… но не упал снова, а взлетел. И уже на лету стал белым, почти прозрачным, только крылышки как у стрекозки замельтешили. Ангелок, да и только. И пропал в высях, словно для него грязных этих каменных сводов не существовало.
А мертвая опять губы разлепила, процедила будто себе:
— Каждый день, каждый час такая мука! За что же…
И на меня уставилась. В глазах кровь заиграла.
— Полюбовался, гад?
А лицо у нее так искусано, что смотреть страшно, вся кожа в клочья порвана, веки струпьями болтаются, из щек гной течет, губа нижняя на подбородке висит… Но прямо на глазах все зарастать начало, все раны позатягивались, кровь исчезла. И опять мертвенно бледная, синюшная, страшная стоит передо мной, руки тянет.
— Теперь твоя пора!
Хочу отшатнуться, отступить хоть чуток назад. И не могу! Окаменел! У нее руки вытягиваться начали, тонкими сделались — тянутся ко мне, дрожат, а из пальцев бледные полупрозрачные когти высовываются. Где сила моя прежняя, где мощь, где гонор?! Все исчезло, будто сам я червяк голый и беззащитный. А как вцепились ее руки в глотку, так и вовсе поплыло все вокруг. Только почувствовал, как шлепнулся назад да затылком голым прямо о камень. А она сверху. И душит, душит! А потом какой-то булыжник позади себя нащупала, сжала в прозрачной руке, так что из-под ногтей кровь зеленая брызнула, и давай лупить мне прямо в рожу, бьет, хохочет, визжит от восторга. А у меня сил терпеть нету. И поделать ничего не могу. Лежу, извиваюсь, подыхаю и от боли, и от страха. Долго она меня била, ох как долго! А по том разлепил я вдруг израненные затекшие глаза, взглянул вверх — прямо ей в лицо. А лицо-то и не ее вовсе! Я сразу не понял ни черта. Лицо-то мое было, точняк! Это я сам себя лупил! Только тот я, который внизу лежал, был слабый да беззащитный, а который сверху — будто носорог здоровущий и злобный. У него булыжник с полголовы моей от ударов на две части раскололся с острыми краями. Так он оба куска ухватил — и ими молотит, лупит, что мочи есть.
— Стой, сволочь! Замри, падла! Это ж я! Ты ж себя самого бьешь!!! — так я заорал с досады и от боли. — Стой! Ублюдище проклятое!
А он, то есть этот другой, натуральный я, хохочет, зубы скалит, в лицо мне плюет. И бьет! Да еще сильнее, больнее! долго дубасил. Потом вдруг прошипел в ухо, прошипел моим натуральным голосом:
— Ты, гнида вонючая, мокрушатина…аная, тута все сполна получишь! Понял, тварюга?! Ты там, наверху каждого живого по разу убивал! А тута тебя за их будут по тыще раз убивать, точно как ты сам, только подольше да побольнее… А может, и не тыщу, а сто тыщ раз за каждого, я не считал! Получай, сучара подлая!
И двумя пальцами мне в глаза как даст — только брызнуло!
Но мне не глаз вышибленных жаль стало, и не от боли сердце сжало. А привалила вдруг во всем этом адском мареве тошная мысль: ежели за каждого, так, как все было, да еще и с повторениями — это каюк, этого мне не выдюжить, каким бы тут вечным тело ни было, это такая адская жуткая мне мука будет без передыху, что и здесь, в этой треклятой преисподней, я себе способ найду, чтоб порешить себя, чтоб только не чувствовать всего этого, чтоб уйти…
— Никуда не уйдешь! — вдруг гаркнул мне прямо в рожу двойник мой. — Отсюда, жлобина гнусная, ни-ку-да не уйдешь!!!
А у меня уже глаза новые прорастают, я его снова видеть начинаю — хохочет, плюется, глумится. Неужто ж и я таким мог быть?! Мог! Ведь это ж я сам и есть! Ловко они тут все напридумывали, мастерюги, мать ихнюю!