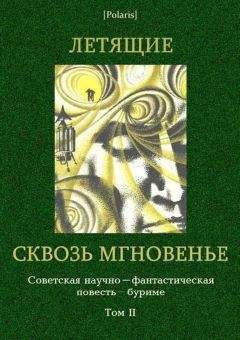«Нельзя» и «надо» были ключевыми словами в системе воспитания, придуманной для него родителями. Тем самым они, сами того не подозревая, воспитывали в нём героя. Это понятно: ни один герой на свете не делает того, чего он хочет. Наоборот, осознание необходимости проявления героизма обязательно проходит через «нельзя» и упирается в «надо». Так, любимый герой его детства Прометей сначала осознал, что ему нельзя быть безучастным к страданиям людей, а потом понял, что ему надо преступить закон и пожертвовать собой для прекращения этих страданий.
Много лет спустя, он с досадой наблюдал за словесными баталиями вокруг несостоявшегося, к его глубокому сожалению, героя — генерала Аугусто Пиночета. Когда того задержали в Англии и устроили долгую тёрку насчёт того, выдавать или нет чилийского реформатора-кровопускателя испанскому суду, то в Москве, по ТВ и в прессе, разного рода околополитические публицисты, разделившись на два лагеря, яростно заспорили друг с другом. Одни говорили, что Пиночета необходимо судить. Другие доказывали, что у Пиночета нужно учиться.
А он тогда поразился видимому скудоумию спорящих, их неумению видеть поверх событий, неспособности разглядеть в судьбе генерала неоконченную дорогу к подлинному героизму, наконец, тупому нежеланию помочь ему пройти эту дорогу до конца.
В самом деле, чему уж такому-разэтакому можно научиться у Пиночета? По части кровоточащего переустройства жизни история знает учителей поавторитетнее. И судить его тоже незачем; чего там судить, если и так всё ясно? Генералу Пиночету, думал он, надо поставить величественный памятник и возле этого памятника его же без всякого там суда и расстрелять, чтобы все, и те, и эти, поняли, каково это — быть настоящим героем.
Нет, сам он никогда не стремился к бесповоротному, жертвенному героизму и, как награде за это, к экзальтированной любви человеческих множеств. Ему было достаточно, чтобы его тихо любили люди, находящиеся поблизости. А для этого он всегда, с самого раннего возраста, старался просто быть правильным, потому что тот же жертвенный героизм есть не более чем частный случай правильного поведения.
Например, у него, даже совсем маленького, всегда было своё мнение касательно событий и эпизодов его жизни. Но это не значит, что он торопился высказать своё мнение и, тем более, настоять на чём-то своём. Он отлично понимал, что оппозиция его оценок и требований по отношению к родительской линии воспитания может существовать только в виде глубоко скрываемых переживаний. Любое другое поведение (сколько-нибудь открытый протест против ножниц из «нельзя» и «надо») просто не было бы правильным. И тогда прощай любовь!
Интересно, что сам он при этом никого не любил. Более того, он ненавидел родителей за то, что они всегда знают правду. Он ненавидел хлеб с маслом и Гагарина за то, что тот любит хлеб с маслом. Он никогда не врал и, давясь, каждое утро ел хлеб с маслом. Он исправно каждый год в свой день рожденья бежал к телефону и, хлопая, как дурак, глазами, выслушивал «поздравление от Гагарина», пока родителям самим не надоела эта глупая игра. Короче, он всё делал правильно и полагал, что вполне заслужил свою порцию любви.
Но! Внутри себя он мучительно завидовал тем, кто осмеливался позволить себе не быть правильными. Особенно тем, кого мама и папа называли шпаной и негодяями. Кто не слушал взрослых, плохо учился, бил слабых и обижал девчонок. Кто (и это вызывало в нем почти обморочное желание сопричастия к страшному) оказывался замешанным в такие дела, о которых и взрослые-то рассказывали друг другу оглядываясь и полушёпотом.
Однажды ранней осенью по их школе поползли невнятные слухи о том, что двое восьмиклассников убили своего товарища из девятого класса. Будто бы это произошло в Подмосковье, близ Люберец, где эти трое оказались по какому-то непонятному делу. В те дни учителя ходили по школе с перевёрнутыми лицами, а директора вообще тихо сняли с работы. Никто из учеников ничего толком не знал, но каждый старался своим видом показать, что ему-то известно нечто, чего не знают другие. При этом на переменах рассказывались какие-то совершенно фантастические истории и то тут, то там звучали три фамилии: Зубко, Польских (их милиция забрала прямо с урока) и Терёхин (это его они убили).
Он тогда учился в четвертом классе (как раз было начало нового учебного года) и знал не больше, чем другие школьники — даже меньше, потому что, не считая учительской, все разговоры о происшедшем крутились среди старшеклассников. Но он с раннего детства умел слышать больше, чем говорят, и ощущать, домысливать то невидимое, что стоит за любым действием. Поэтому по доходившим до него полувзглядам, полузвукам, он догадывался, что само убийство в этом деле — далеко не главное событие, да и не самое страшное.
И вот вскоре, в один из последних тёплых сентябрьских выходных, будучи с родителями на даче, он подслушал разговор отца с матерью — как раз об этом самом. Было уже поздно, он спал, но проснулся в туалет. Вернувшись в спальню, он вдруг услышал со двора голос отца, произнёсший знакомую фамилию: Терёхин. Он на цыпочках подкрался к открытому окну, осторожно устроился на подоконнике и стал внимательно вслушиваться. Родители сидели за самоваром в беседке прямо под окном, поэтому он всё хорошо разобрал и запомнил. Потом, чем старше он становился, тем больше этот сюжет занимал его, и как-то, году в 96-ом, познакомившись по случаю в ресторане «Пекин» со следователем Люберецкой прокуратуры по имени Султан, он вспомнил про свой давний интерес и попросил найти и дать ему почитать то старое дело. Через два дня пухлую картонную папку с традиционным логотипом «ДЕЛО №…» ему привезли прямо в офис. Он одолел её часа за два с половиной и отправил назад с должной благодарностью.
Потом он долго прокручивал в голове прочитанное, прилаживал так и сяк подробности, пока мрачная история осени 68-го года окончательно не сложилось у него в голове как «Спираль Надежды».
Когда Игорь Польских сказал приятелям, что проиграл в очко 50 рублей блатному по кличке Фашист, Саша Зубко и Валера Терёхин только молча покачали головами. Фашист в их районе, на Маросейке, был фигура известная своей беспощадностью и жестокостью. Потом Терёхин сказал: «Говорили тебе, Поль, не играй с блатными, а теперь видишь чего…» Они сидели в сумерках за школой на краю футбольного поля возле ямы для прыжков в длину, и Польских так двинул ногой Терёхина в бок, что тот опрокинулся, зарылся в деревянные опилки. «Тебя не спросил, с кем мне играть! Думай лучше, Трёха, где деньги брать! И ты, Зуб, тоже думай! А то как вино жрать на мои, так они вот… А как до дела, так мораль читать! По фигу мне ваша мораль!» — Польских не на шутку раскипишился и говорил, сузив глаза, растягивал гласные, подражая блатным. Именно он, восьмиклассник Польских, признавался среди них троих авторитетом, а не Терёхин, хоть и был на год старше, выше ростом и крупнее, и уж никак не Зубко, вертлявый, маленький, щуплый. «А я чего? — опасливо отодвинулся Зубко, — это вот он, Трёха. А деньги… пятьдесят колов! — он присвистнул. — Где ж их столько взять?» Польских достал пачку «Шипки», спички, протянул приятелям. Терёхин отвернулся, отряхиваясь. Двое закурили. Какое-то время сидели молча, глотали душный дым. Потом Зубко спросил: «Ну а Фашист-то чего?» Польских закусил губу, зло сплюнул: «А что Фашист? Говорит, в понедельник не отдашь, на процент поставлю…» «А потом? На перо?» — поёжился Зубко. «Не-а. Зачем? В деле заставит отработать». «В каком деле?» — не понял Зубко. «А я знаю?! Чего ты как дурак?! В ка-ако-ом де-еле, — передразнил Польских. — Найдет в каком. У них дел… хватает. А в дела замажет — всё! Не выпутаешься, хана!» Откинулся навзничь и, кривляясь, запел: