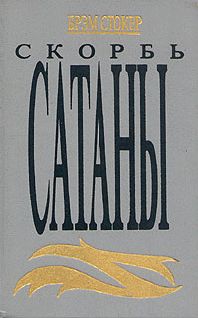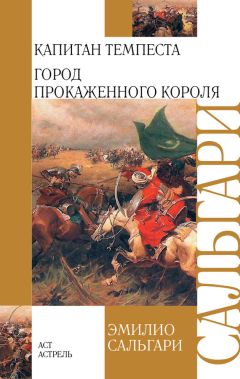С этими словами я оставил его, озадаченного и раздраженного, и через два-три дня газеты были, наполнены странными историями относительно меня, а также многочисленным враньем. Меня называли «сумасшедшим человеком без принципов, идущим против интересов правосудия», и различные другие грубые учтивости, известные только копеечным писакам, сыпались на меня.
Чтобы дополнить мое удовлетворение, один человек из штата одного большого журнала откопал мою книгу из грязи какого-то погреба и раскритиковал ее с горечью и злобой, как некогда я анонимно разгромил труд Мэвис Клер. И результат был замечательный, потому что, по внезапному капризу, публика набросилась на мое литературное произведение, которым так долго пренебрегала; она вынула его, нежно держала в руках, медленно прочла, нашла в нем нечто понравившееся ей и, наконец, раскупала его тысячами… После этого хитрый Моджесои как добродетельный издатель написал мне поздравление со вложением чека на сто фунтов и обещая больше, если спрос будет продолжаться.
Ах, сладость этих заработанных ста фунтов! Я чувствовал себя королем независимости! Царства стремления и достижения открылась мне прежде. Что говорить о бедности?! Я был богат! Богат с сотней фунтов, добытых мозговою работою, – и я не завидовал миллионерам, блиставшим своим золотом. Я думал о Мэвис Клер… Но я не смел слишком долго останавливаться на ее милом образе. Со временем, может быть, когда я примусь за новую работу, когда я создам свою жизнь, какою я хотел бы ее создать – в правилах веры, твердости и бескорыстия, – я напишу ей и все расскажу – все, даже о страшных неведомых мирах за пределами неизвестной страны вечного льда и снега. Но теперь я решил остаться один, бороться, как должен бороться человек, не ища ни помощи, ни сочувствия, не полагаясь на свое я, а только на Бога. Кроме того, я не мог заставить себя взглянуть опять на Виллосмир. Он был для меня местом ужаса; и, хотя лорд Эльтон с курьезным снисхождением, сознавая, что благодаря мне он получил назад свое поместье, пригласил меня остаться там и выразил некоторое сожаление о моих «тяжелых финансовых потерях», – я понимал из его тона, что он смотрел на меня, как на полоумного, после моего отказа возбудить дело против моих бежавших поверенных, и что он предпочел бы, если бы я отказался от приглашения. И я отказался; даже когда настал день его свадьбы с Дайаной Чесней, отпразднованный с пышностью и великолепием, я не поехал туда. В напечатанном списке гостей, появившемся в газете, я без удивления прочел имя: «Князь Лючио Риманец».
Я теперь занимал скромную комнату и приступил к новому литературному предприятию, избегая всех, кого я прежде знал, так как, будучи теперь почти бедным человеком, я узнал, что чопорное общество пожелало вычеркнуть меня из своего визитного списка. Я жил со своими скорбными мыслями, размышляя над многими вещами, мужественно направляя себя к смирению, послушанию и вере, и день за днем я боролся с чудовищем-себялюбием, представлявшимся мне в тысяче личин при каждой перемене в моей собственной жизни так же, как и в жизни других. Мне нужно было переделать свой характер, поборов упрямую натуру, которая бунтовала, и заставить ее упрямство служить для достижения высших целей, чем мирская слава. Задача была трудна, но с каждым новым усилием я делал успехи.
Так я прожил несколько месяцев в горьком самоунижении, как вдруг весь читающий мир наэлектризовался новой книгой Мэвис Клер. Мой первый труд, еще недавно пользовавшийся благосклонностью, был опять забыт и отброшен в сторону; ее труд, поносимый по обыкновению критиками, – вознесся к славе широкой волной общественной хвалы и энтузиазма. А я! Я радовался! Больше не завидуя ее славе, я стоял поодаль, глядя на ее триумфальную колесницу, убранную не только лаврами, но и розами – цветами народной любви и почитания. Всей душой я преклонился перед ее гением. Всем сердцем я чтил в ней чистую женщину! И, в самом разгаре ее блестящего успеха, когда весь свет говорил о ней, она написала мне простое маленькое письмецо, такое же грациозное, как и ее прелестное личико:
"Милый мистер Темпест!
На днях я случайно услышала, что вы возвратились в Англию. Поэтому посылаю эту записку через вашего издателя, чтобы выразить мой искренний восторг по поводу успеха, которого теперь достигла ваша интересная книга после интервала ее искуса. Мне думается, что оценка вашего труда публикой должна утешить вас в ваших великих потерях в жизни и состоянии, о которых я не буду здесь говорить.
Когда вы почувствуете, что в состоянии опять взглянуть на места, которые теперь, я знаю несомненно пробудят в вас печальные и мучительные воспоминания, не приедете ли вы повидаться со мной?
Ваш друг,
Мэвис Клер"
Мои глаза заволоклись туманом; я почти чувствовал ее милое присутствие в моей комнате; я видел нежный взгляд, лучезарную улыбку, невинную, хотя серьезную, жизнерадостность, исходящие от светлой личности самой приятной женщины, какую я когда-либо знал. Она сама назвалась моим другом!..
Это была привилегия, которой я чувствовал себя недостойным. Я сложил письмо и положил его на сердце, чтобы оно служило мне талисманом… Она, из всех блестящих созданий на свете, несомненно, знала тайну счастия…
Когда-нибудь… да… я поеду и повидаюсь с ней… с моей Мэвис, которая поет в своем саду лилий, – когда-нибудь, когда у меня достанет силы и мужества сказать ей все – кроме моей любви к ней. Когда я сидел, размышляя таким образом, странное воспоминание пришло мне в голову… Мне чудилось, что я слышал голос, похожий на мой собственный, который говорил:
– Подними, о, подними скрывающее тебя покрывало, дух Города Прекрасного. Так как я чувствую, что прочту в твоих глазах тайну счастия.
Холодная дрожь пробежала по мне; я вскочил в ужасе. Высунувшись из открытого окна, я глядел на суетливую улицу внизу, и мои мысли вернулись к странным вещам, которые я видел на Востоке: лицо умершей египетской танцовщицы, открытое опять спустя тысячу лет, – лицо Сибиллы; затем я вспомнил видение «Города Прекрасного», в котором одно лицо оставалось скрытым – лицо, которое я более всего желал видеть! И я дрожал все больше и больше, в то время как мой ум, против моей воли, начал связывать вместе звенья прошедшего и настоящего, пока они не слились в одно.
Поборов свои ощущения, я оставил работу и вышел на свежий воздух… Был поздний вечер, и луна сияла. Занимаемая мной комната находилась в доме недалеко от Вестминстерского Аббатства, и я инстинктивно направил свои шаги к старому серому храму умерших королей и поэтов. Сквер вокруг него был почти запущен; я убавил шаг и задумчиво побрел по узкой мощеной дороге, ведущей в Старый Дворцовый Двор, – как вдруг тень пересекла мой путь, и, подняв глаза, я встретился лицом к лицу с Лючио. Так же, как и всегда, превосходное олицетворение превосходной мужественности… Его лицо, бледное, гордое, скорбное, однако презрительное, блеснуло мне, как звезда. Он взглянул на меня в упор, и вопросительная улыбка заиграла на его губах.